Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Публикуется фрагмент статьи, посвященной концепции литературной акустики, а также интермедиальности, то есть проблемам построения сложной сети отношений и ссылок между различными медиа.
Впервые статья опубликована в Справочнике по интермедиальности (Handbook of Intermediality: Literature – Image – Sound – Music (Handbooks of English and American Studies 1). De Gruyter, 2015).
Впервые статья опубликована в Справочнике по интермедиальности (Handbook of Intermediality: Literature – Image – Sound – Music (Handbooks of English and American Studies 1). De Gruyter, 2015).
Швейцарский литературовед, профессор североамериканской и общей литературы в Базельском университете. Швайгхаузер изучал английскую и немецкую литературу и лингвистику в Базельском университете, где в 2003 году он получил докторскую степень за диссертацию, в которой было введено понятие "Литературная акустика".
Le favole della Maria. Torino: Giulio Einaudi, 2007. За эту книгу в 2008 г. Мореско получил премию Андерсена.
Gli esordi. Milano: Feltrinelli, 1998.
Слова того же Сукиного Кота в «Песнях хаоса», стр. 107.
Буквально: «Ты будешь священником в вечности» (лат.). Это цитата из Пс. 109:4 («Ты священник вовек по чину Мелхиседека»), которая повторяется и объясняется в Евр. 7: 15-16 и 27 (применительно к Христу): «...по подобию Мелхиседека восстает Священник иной, Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей... Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого».
Gli incendiati. Milano: Arnoldo Mondadori, 2010.
Merda e luce. Milano: Effigie edizioni, 2007.
La santa. Torino: Bollati Boringhieri, 2000.
Стихотворение «Вода и огонь», пер. Алексея Прокопьева.
Вместе с эссе публикуются фрагменты из романа Антонио Мореско «Песни хаоса» (Canti del caos, 2001).
Итак, с осознанием как пользы, так и ограничений теории интермедиальности для исследования звука, я обращаюсь к кейсу данной статьи. Мой обучающий текст — это восхитительная, крайне экспериментальная книга американского писателя Бена Маркуса "Эпоха провода и струны", которая была впервые опубликована в 1995 году издательством Knopf, а затем переиздана Granta Books в 2013-м с добавлением многочисленных иллюстраций Кэтрин Морган. Книга Маркуса состоит из введения, именуемого "Аргумент", за которым следуют восемь секций, обозначенных "Сон", "Бог", "Еда", "Дом", "Животное", "Погода", "Персоны" и "Общество". Первые семь секций состоят из пяти историй каждая, которые занимают от половины страницы до двенадцати; финальная секция состоит из шести историй. Тексты, многие из которых настолько коротки, что могут быть классифицированы как виньетки, имеют странные названия: "Сношение с реанимированной женой", "Этика слушания при посещении мест, где он содержится", "Пищевые наряды Монтаны". Каждая секция заканчивается глоссарием, названным "Термины", который попирает сами основы глоссария, ибо он настолько же загадочный, что и сами истории. "Эпоху провода и струны" сложно классифицировать простыми словами: это сборник рассказов, возможно, роман, который выглядит как каталог или энциклопедия вымышленного мира. Как мы читаем в "Аргументе":
Эта книга — каталог проекта жизни, каким он предстаёт на суд в Эпоху Провода и Струны и за её пределами, в устройстве стран, земель и городов и, далее, внутри маленьких жилищ, которым посчастливилось быть возведёнными или размещёнными временно на периферии районов и речных поселений. Образования — состоящие из скоплений и разрозненные — давно нуждались в документации тайных движений и в инструкции, в собрании исследований, разъясняющих смутные термины в рамках каждого аспекта жизненной программы.
По большей части тон книги именно такой: прямолинейный, отстраненный и холодный, напоминающий этнографический курс, теологический трактат или руководство пользователя. Однако в некоторых отрывках он лиричный и патетический в самом лучшем смысле слова. Засвидетельствуйте сложное смешение обоих тонов в определении слова "уныние": "УНЫНИЕ — Первый порошок, с которым приходится бороться после пробуждения. Может пребывать в орудиях или предметах одежды и поддаётся искоренению ещё большим количеством самого себя; в таком случае лицо результирует в безмятежную систему, которая, вздымаясь, струится водой". Но более того "Эпоха провода и струны" — это радикальный языковой эксперимент: с письмом настолько же поэтичным, как проза Гертруды Стайн, и настолько же сложным и конкретным, как поэзия имажизма. Это письмо, которое работает с чистыми, короткими и часто паратаксическими предложениями; которое плодотворно изобретает новые существительные, такие как "герш", "кёрм" и "фраск", а также новые концепты: "воздушная татуировка", "печёный корсет" и "порождение погоды"; письмо, которое регулярно трансформирует имена собственные в имена нарицательные ("НАГЛЬ — Деревянное приспособление, которое первым подчинило зимнего Альберта"); письмо, которое сообщает, что все в этом вымышленном мире соединено проводами и струнами, оставляя нас размышляющими о природе и действительном существовании наличных связей во вселенной, письмо, которое остается чрезвычайно странным и не позволяет нам вывести из него какого-либо вразумительного нарратива. В первую очередь, текст Маркуса работает над самим языком, делая его странным, чтобы позволить нам увидеть по-другому мир, который, как нам кажется, мы уже знаем. У русского формалиста Виктора Шкловского есть слово для этого — остранение. Действительно, Маркус остраняет для нас мир, с которым мы свыклись, потому что воспринимаем его в автоматическом, привычном ключе. "Эпоха провода и струны" выталкивает нас из лингвистического и перцептивного самодовольства, чтобы заставить увидеть и услышать мир по-новому.
Фокусируясь на присутствии звука и шума в данном тексте, мы видим, что его акустическое воображение значительно способствует эффекту остранения. Смотрите начало секции "Скрытый шар внутри песни":
Фокусируясь на присутствии звука и шума в данном тексте, мы видим, что его акустическое воображение значительно способствует эффекту остранения. Смотрите начало секции "Скрытый шар внутри песни":
Изувеченный Стивен верхом на коне врывается в лес — игра, которую аналитики называют «игрой в скрытый шар» или «игрой в пулю». Известно, что определённые фигуры преследуют округлые объекты, когда звучит песня; чем шире структура песни, тем дольше человек будет охотиться за шаром, камнем или пулей. В мелодии каждой песни заложена способность к искажению, которая проявляется только при исключении текста (силу мелодии часто заглушают бессмысленные слова, мечущиеся по поверхности). В скрытом шаре, когда текст песни забыт (невозвратные танцевальные шаги стирают память о словах), мелодия безудержно вырывается на передний план и сокрушает торс всадника. […] игра в музыкальное искажение длится до тех пор, пока музыканты могут поддерживать воспроизведение песни, придумывая песни внутри песен, если возникает необходимость.
Что необычно в песне, звучащей в данной секции, — не только жестокое воздействие, но также, что "песня" не совсем верное определение, по крайней мере, если учесть основное качество музыки — мощность наносимых увечий: мелодия калечит, пока вокальные элементы, которые являются традиционными частями песни, сдерживают разрушительное воздействие музыки. "Песню" здесь не поют, ее играют, и исполняют ее не певцы, а "музыканты".
В данном случае мы имеем обе интермедиальные отсылки: она эксплицитна в том плане, что музыкальное произведение явно упоминается, и имплицитно в том, что Маркус здесь вызывает (смертельный) эффект другого медиа. Более того: Маркус создает медиальное соревнование в том смысле, что он утверждает: упомянутое медиа (музыка) особенно разрушительно, когда оно лишено лингвистических сигнификатов, которые являются наполнением основного медиа (литература). Также интересно, что Маркус упоминает не песню, существующую в эмпирической реальности, но воображенную песню, добавляя немиметическое качество к тексту. Когда дело доходит до музыки, данный метод удерживается на протяжении всей "Эпохи провода и струны": мы читаем о "ножных песнях" и узнаём, что "спикулы кожи у большинства насекомых напоминают музыкальную нотацию, когда размотаны", но никогда не встречаем существующих музыкальных произведений. Однако по этой причине интермедиальные исследования, с их фокусом на "отсылку" в большей степени, чем на "репрезентацию", очень хорошо подходят для анализа отношений между литературой и музыкой в экспериментальных, немиметических текстах, как у Маркуса.
Но чаще всего звуки, пропитывающие "Эпоху провода и струны", не музыкальные, а шумные: мы читаем о человеке, который "вымывает" дом "шумом и паром"; мы обнаруживаем, что "кашель" определяется как "устройство для перемещения народа или грузов с одного уровня на другой"; мы узнаём, что "Агломерат — это криптоним для воздушного перехвата и шумовой передачи образованных из ветоши форм"; и мы слушаем обретающий высокую частотность шум ветра, от которого "многие оглохли или их уши почернели". Для анализа подобного типа звуков интермедиальные исследования подходят в меньшей степени, так как они фокусируются на (художественных) медиа, которые более конвенциональны (картины, скульптуры, архитектура, кино и музыка в списке Рипла, процитированном выше). Это не дефект в подходе, но указание на то, что интермедиальные исследования не могут быть нашей единственной методологией, когда дело доходит до изучения отношений между литературой и звуком.
Это становится в особенности очевидно, когда мы переносим наше внимание на шум. В "Эпохе провода и струны" самый явный источник шума — это солнце:
В данном случае мы имеем обе интермедиальные отсылки: она эксплицитна в том плане, что музыкальное произведение явно упоминается, и имплицитно в том, что Маркус здесь вызывает (смертельный) эффект другого медиа. Более того: Маркус создает медиальное соревнование в том смысле, что он утверждает: упомянутое медиа (музыка) особенно разрушительно, когда оно лишено лингвистических сигнификатов, которые являются наполнением основного медиа (литература). Также интересно, что Маркус упоминает не песню, существующую в эмпирической реальности, но воображенную песню, добавляя немиметическое качество к тексту. Когда дело доходит до музыки, данный метод удерживается на протяжении всей "Эпохи провода и струны": мы читаем о "ножных песнях" и узнаём, что "спикулы кожи у большинства насекомых напоминают музыкальную нотацию, когда размотаны", но никогда не встречаем существующих музыкальных произведений. Однако по этой причине интермедиальные исследования, с их фокусом на "отсылку" в большей степени, чем на "репрезентацию", очень хорошо подходят для анализа отношений между литературой и музыкой в экспериментальных, немиметических текстах, как у Маркуса.
Но чаще всего звуки, пропитывающие "Эпоху провода и струны", не музыкальные, а шумные: мы читаем о человеке, который "вымывает" дом "шумом и паром"; мы обнаруживаем, что "кашель" определяется как "устройство для перемещения народа или грузов с одного уровня на другой"; мы узнаём, что "Агломерат — это криптоним для воздушного перехвата и шумовой передачи образованных из ветоши форм"; и мы слушаем обретающий высокую частотность шум ветра, от которого "многие оглохли или их уши почернели". Для анализа подобного типа звуков интермедиальные исследования подходят в меньшей степени, так как они фокусируются на (художественных) медиа, которые более конвенциональны (картины, скульптуры, архитектура, кино и музыка в списке Рипла, процитированном выше). Это не дефект в подходе, но указание на то, что интермедиальные исследования не могут быть нашей единственной методологией, когда дело доходит до изучения отношений между литературой и звуком.
Это становится в особенности очевидно, когда мы переносим наше внимание на шум. В "Эпохе провода и струны" самый явный источник шума — это солнце:
Сезонов не существовало. Солнце начало издавать шум. Дождь не шёл. Птицы вспорхнули, напуганные звуком. [...] Солнечное смятение рвалось внутрь сквозь дыры, проделанные проводом. [...] Укрытия малышей медленно лопались под напором солнца, и древесина разлетелась в щепки на тёплом ветру. Лошади пали. Их уши кровоточили. [...] Когда зерно иссякло, самые юные повысыпали из нор и рванули в траву. Шум было видно, жёлтые волны накатывали на них. Некоторые распались и погибли. [...] Солнце было маленьким и жёстким. Его шум стал новым видом ветра. Он делал деревья мягкими и трухлявыми. [...] Ветер усилился и поменял направление. Птиц уносило ввысь, за пределы их возможностей. Солнце стало меньше и громче. В земле образовались дыры. Воздух вырывался наружу. [...] Утреннее солнце было громким, и они выбегали к открытому месту, протыкая уши проводом. [...] Солнце могло быть крошечной точкой, где угодно. [...] Солнце зазвучало. Он услышал его приближение. Столкнул всю конструкцию к реке. После его смерти, они говорили с его телом.
Здесь, в секции "Убийца погоды", Маркус разворачивает квази-апокалиптический сценарий, в нем шум солнца — который мы могли бы описать в репрезентативной манере, обращаясь к тому, что ученые NASA идентифицировали как экстремально горячие газовые волны давления, с шумом проносящиеся по поверхности солнца, — несет угрозу, калечит и уничтожает жизнь на земле. Что дает этому и другим отрывкам о шуме солнца крайне немиметический уклон — их дистопические, фантастические, воображаемые качества. Это солнце и этот шум — продукты литературного текста, который мы читаем, а не предшествующее представление о феномене. Столь же важно, что стиль, в котором солнце и его шум созданы, вводит вид пертурбаций — коммуникационный, культурный шум — в том, как угловатая дикция, анафоры и нетрадиционные словосочетания ("дыры, проделанные проводом"; "солнце было маленьким и жёстким"; "они говорили с его телом") в этом тексте радикально остраняют его от обычных, повседневных способов общения, чтобы ввести шум в коммуникационные каналы нашей культуры. Именно это сближение двух видов литературного производства звука и шума — внутреннего и внешнего — литературная акустика помогает нам оценивать и описывать. Литературная акустика также помогает нам понять, что определение солнца Маркусом в глоссарии данной секции имеет сильное саморефлексивное качество в том, что оповещает нас о замысловатом отношении между шумом солнца на тематическом уровне и шумом текста на функциональном, коммуникационном уровне:
СОЛНЦЕ — Исток первых звуков. Некоторые члены общества до сих пор улавливают усиленные речевые вспышки, исходящие от этой сферы, и разработали соответствующие шумозащитные муфты для головы и спины. В тридцать была разработана поэтическая система, основанная на семнадцати основных тональных потоках, разряжающихся из солнечной мездры.
В качестве заключения позвольте обратиться к обширным иллюстрациям Кэтрин Морган: диаграммы, графики, остраненные фотографии и как абстрактные, так и фигурные рисунки. Эти изображения добавляют книге Маркуса плюромедиальное измерение. Иногда они исполняют иллюстративную функцию, позволяя читателям визуализировать странный воображаемый мир Маркуса. Но чаще всего отношение между изображениями и целенаправленно немиметичной прозой Маркуса остаются совершенно неясными, из-за чего комбинация изображение-текст создает дальнейшие помехи — шум, — что добавляет загадочности всей книге. В контексте интереса настоящей статьи в пересечении между литературой и звуком — дизайн шмуцтитулов Морган представляет особый интерес.
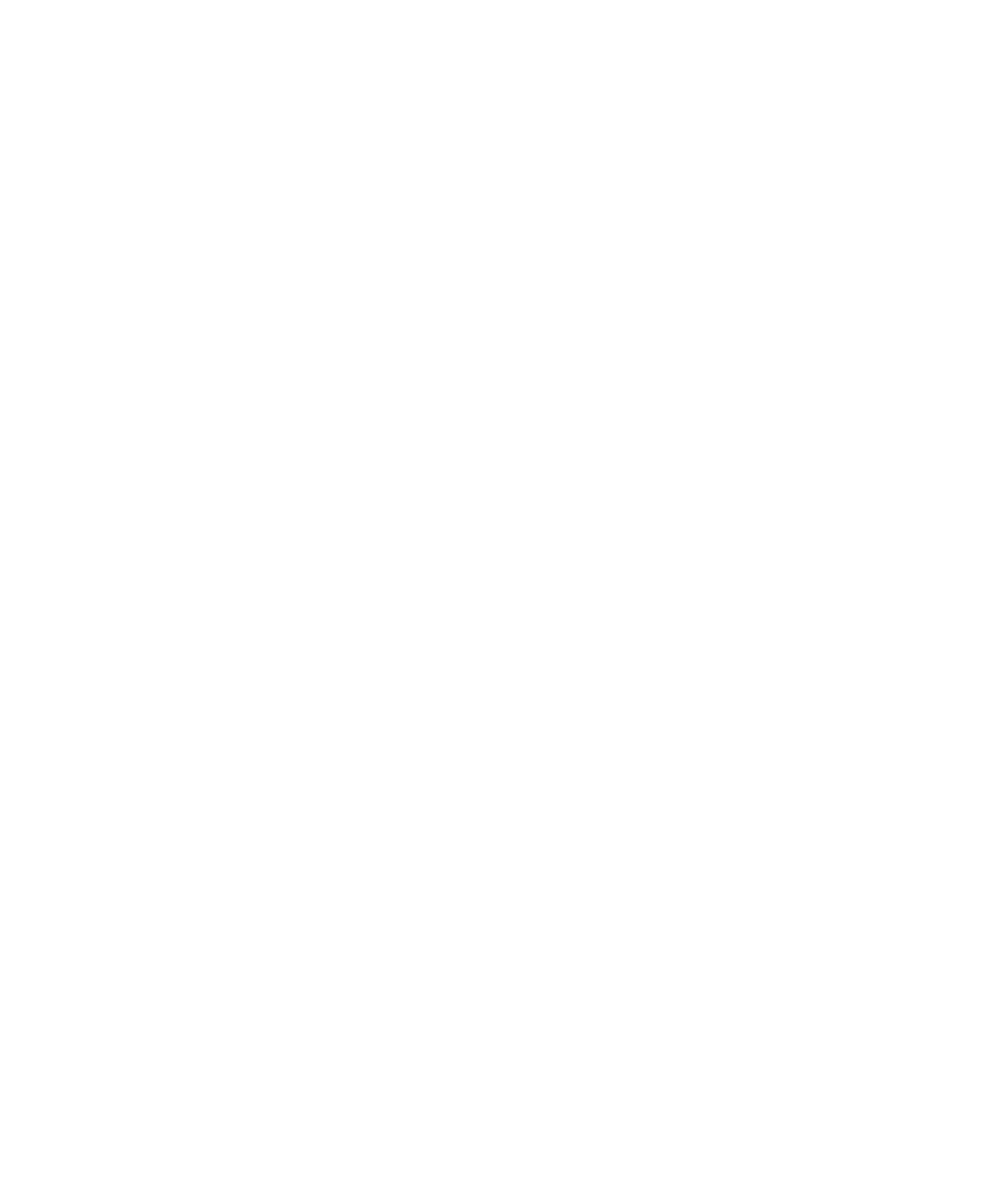
Присутствует не менее двух тематических отношений между секциями заглавий Морган и текстом Маркуса, а именно, что последний, как мы видели ранее, наполнен рефлексией о смерти и шуме. Кроме того, визуальная работа Морган вводит в текст цезуру, чья шумность как добавляет, так и повторяет фрагментарное, непокорное, шумное качество самого текста. Однако важнее всего, с точки зрения интермедиальных исследований, что последовательность заглавий и текста формально имитируют переключение каналов на старом аналоговом телевизоре. Важно упомянуть, что хотя миметическое измерение и присутствует в дизайне заглавий Морган, отношение между всей книгой — включая иллюстрации Морган — и телевидением нерепрезентационно. Вместо этого телевидение упоминается и его формальные признаки воспроизведены в интермедиальных формах. Это крайне немиметическое измерение "Эпохи провода и струны", которое нам помогают понять как интермедиальные исследования, так и, в особенности, литературная акустика.
К тому же несмотря на то, что в маркусовских ландшафтах есть среднезападные, огайские черты, и что Маркус свободно включает имена реальных членов семьи — тот же второй эпиграф книги принадлежит его отцу, математику Майклу Маркусу ("Математика — это предельная форма ностальгии нашего времени") — ни его топографии, ни его биографические отсылки не являются миметическими. В то время как названия реальных мест присутствуют в большом количестве (Огайо, Юта, Арканзас, Детройт и Буффало, к примеру), описания Маркусом мест, людей и животных, которые живут там, и событий, которые там происходят, не имеют ничего общего с тем, что мы уже знаем: Огайо, например, обозначен как "жилище, будь оно построено или разрушено", и Джейсон Маркус, персонаж, который носит имя реального брата Маркуса, описан, как "образованный из пищи, подобно элементарным частицам, которые медленно оседают или висят в лёгких потоках и в некотором количестве присутствуют в воздухе повсеместно". Проза Маркуса — классический пример литературы Darstellung, а не репрезентации, интермедиальной, шумной, непокорной литературы, которая соответствует изречению другого экспериментального писателя, Джона Хоукса, в 1965 отмечавшего, что он "начал заниматься художественной литературой из предположения, что настоящими врагами романа были сюжет, персонаж, сеттинг и тема".
К тому же несмотря на то, что в маркусовских ландшафтах есть среднезападные, огайские черты, и что Маркус свободно включает имена реальных членов семьи — тот же второй эпиграф книги принадлежит его отцу, математику Майклу Маркусу ("Математика — это предельная форма ностальгии нашего времени") — ни его топографии, ни его биографические отсылки не являются миметическими. В то время как названия реальных мест присутствуют в большом количестве (Огайо, Юта, Арканзас, Детройт и Буффало, к примеру), описания Маркусом мест, людей и животных, которые живут там, и событий, которые там происходят, не имеют ничего общего с тем, что мы уже знаем: Огайо, например, обозначен как "жилище, будь оно построено или разрушено", и Джейсон Маркус, персонаж, который носит имя реального брата Маркуса, описан, как "образованный из пищи, подобно элементарным частицам, которые медленно оседают или висят в лёгких потоках и в некотором количестве присутствуют в воздухе повсеместно". Проза Маркуса — классический пример литературы Darstellung, а не репрезентации, интермедиальной, шумной, непокорной литературы, которая соответствует изречению другого экспериментального писателя, Джона Хоукса, в 1965 отмечавшего, что он "начал заниматься художественной литературой из предположения, что настоящими врагами романа были сюжет, персонаж, сеттинг и тема".


