Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Статья опубликована в журнале The New Yorker 28 марта 2022 года.
Управление промышленно-строительными работами общественного назначения — независимое федеральное агентство, созданное в США в 1935 году по инициативе президента США.
Журнал, основанный в 1966 году, сначала издавался как ежеквартальный американский журнал учащимися частной средней школы Rabun Gap-Nacoochee, расположенной в штате Джорджия.
Тест на гендерную предвзятость в художественном произведении.
Тест, исследующий наличие расово разнообразных персонажей в фильмах, телешоу и других средствах массовой информации.
Тест на ЛГБТ предвзятость в художественном произведении.
Blood, Bone, and Marrow: A Biography of Harry Crews, 2016.
Стихотворение ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1995 года.
Making it, 1967.
Певец округа Бэйкон
Через две недели после смерти писателя Харри Крюза газета «Таймс» внесла исправление в его некролог. В первоначальном варианте сообщалось, что в детстве «он упал в котел с кипящей водой, которая использовалась для сдирания шкур с забитых свиней». В поправке уточняется, что кипяток предназначался для снятия шерсти.
Ощипывание поросенка — об этом Крюз был хорошо осведомлен, как и о приготовлении опоссума, чистке петушиного зоба, самогоноварении, отлове дичи, дублении шкур и борьбе с гусеницами. Хотя Крюз дожил до 2012 года, его книги — шестнадцать романов, два сборника эссе и мемуары — больше напоминают об ушедшей эпохе. Лучшее из того, что он написал, походит на брошюры WPA2 или издания Foxfire3, полные захватывающего фольклора и тягот жизни, рассказов из глубинки о временах, когда мир казался черно-белым во всех своих возможных смыслах.
Мы часто задаемся вопросом, почему писатель исчезает из поля зрения, но в случае Крюза легко проследить путь к безвестности. В его произведениях так много драк, пьянства, домашнего насилия, болезней, увечий, расистских высказываний, расового насилия, социопатии, изнасилований и распутства, что никакой алгоритм не смог бы спроектировать автора, который с большей вероятностью провалит тест Бекдел4, тест ДюВерне5, тест Вито Руссо6 и любое другое испытание, которому подвергается искусство в наши дни. Но Крюз писал о том, что знал, не одобряя и даже не объясняя — это просто было источником его творчества.
Захолустные регионы и забытые субкультуры являлись материалом для Крюза. Его романы, в том числе наиболее известный «Ястреб умирает» и наиболее признанный «Пир змей», были несовершенны, но мемуары его безупречны и являются одним из лучших произведений, когда-либо написанных американцами. Карьере Крюза стукнуло уже десять лет, на его счету было шесть романов, когда его издатель отклонил предложенную ему автобиографическую рукопись. Мемуары, написанные в качестве реакции на этот отказ, отвечают на некоторые конкретные вопросы, а именно: откуда взялся их автор и как он стал писателем, а также задают более широкие: почему кто-то становится кем-то, как мы связываем наше прошлое с нашим будущим и почему некоторые вещи — книга, ее автор — избегают забвения.
* * *
Одно только название мемуаров заслуживает того, чтобы поразмыслить над ними в течение небольшой вечности. Книга «Детство: биография места», впервые опубликованная в 1978 году, недавно была переиздана в серии Penguin Classic. Детство, описанное на ее страницах, разворачивается в тридцатые-сороковые годы, а место, в котором оно проходит — округ Бэйкон, штат Джорджия. В названии книги двоеточием уравновешиваются две неправдоподобности: то, что описанные события действительно происходили в молодости одного человека, и то, что эти события, далеко не экстраординарные для своего времени или обстановки, представляют собой обычный опыт, разделяемый родственниками и сообществом.
Крюз родился в 1935 г. в округе Альма, примерно в двухстах милях к югу от Атланты, недалеко от болота Окефеноки, в однокомнатном доме, который его отец, используя поперечные пилы, клинья, молотки и топоры, построил на участке земли, расчищенном от сосен, зарослей пальметты и кустов желчника. Его родители, Рэй и Миртис, были фермерами-арендаторами и переезжали с одного участка на другой, в окружении соседей, ведущих такое же, почти натуральное хозяйство. У каждой семьи имелось так мало вещей, что все, чем они владели, можно было перечислить в паре предложений. «Семьи тогда были важны, — пишет Крюз, — и важны не потому, что детей можно было использовать в полях: собирать кукурузу, рыхлить землю под посадки хлопка, срезать листья картофеля в сырую погоду или помогать забивать свиней и все такого рода. Нет, семьи были важны, потому что единственное, что может иметь мужчина и быть уверенным в этом — большая семья».
Собственная семья Крюза являлась источником секретов и горестей. Его отец умер, когда Крюзу едва исполнилось два года, сердечный приступ во сне, настолько внезапный, что не разбудил ни жену, ни двух сыновей, с которыми он делил постель. Мать Крюза вышла замуж за своего деверя, Паскаля, и это держалось в тайне от Крюза много лет. Всевозможные родственники, в основном со стороны матери писателя, появляются и исчезают на страницах «Детства», одни несут утешение, юмор или мудрость, другие — злобу, плохие новости или ужасные советы. «Я происхожу из народа, который верит, что иметь родное место так же жизненно важно, как и биение собственного сердца», — пишет Крюз. Но поскольку его семья часто переезжала, «гоняла от столба к столбу», такого места у него не было. В результате он считает своим домом весь округ Бэйкон, а его мемуары полны местных персонажей: целитель Холлис Туми, которого «тянуло к сильным ожогам, как железные стружки к магниту»; самогонщик Твик Флетчим, однажды выстреливший в отца Крюза (он промахнулся, да и вообще это была всего лишь птичья дробь); Тетушка, бабушка лучшего друга Крюза, бывшая рабыня, убеждавшая маленького Харри, что он ходит во сне, потому что птица плюнула ему в рот; и Дурной Глаз Картер, человек настолько злой, что он отрубил руку другому персонажу, когда тот положил ее на столб его забора. («Двое родственников Дурного Глаза Картера были убиты в схватке за отрубленную руку», — пишет Крюз, поясняя, что потерявший конечность человек «хотел похоронить ее по-христиански».)
Даже безымянные персонажи Крюза запоминаются не хуже, чем главные герои иных мемуаров. Возьмем, к примеру, погонщиков мулов, идеальное воплощение — доморощенное, но поистине гомеровское — того места, откуда родом Крюз, и то, как умело он об этом пишет. «Муловод, — говорит Крюз об этих мастерах животноводства, — с точностью до года-двух может определить возраст мула». Мулы, продолжает он, теряют по два зуба в год, пока им не исполнится пять, но после этого определить их возраст становится все сложнее:
Ощипывание поросенка — об этом Крюз был хорошо осведомлен, как и о приготовлении опоссума, чистке петушиного зоба, самогоноварении, отлове дичи, дублении шкур и борьбе с гусеницами. Хотя Крюз дожил до 2012 года, его книги — шестнадцать романов, два сборника эссе и мемуары — больше напоминают об ушедшей эпохе. Лучшее из того, что он написал, походит на брошюры WPA2 или издания Foxfire3, полные захватывающего фольклора и тягот жизни, рассказов из глубинки о временах, когда мир казался черно-белым во всех своих возможных смыслах.
Мы часто задаемся вопросом, почему писатель исчезает из поля зрения, но в случае Крюза легко проследить путь к безвестности. В его произведениях так много драк, пьянства, домашнего насилия, болезней, увечий, расистских высказываний, расового насилия, социопатии, изнасилований и распутства, что никакой алгоритм не смог бы спроектировать автора, который с большей вероятностью провалит тест Бекдел4, тест ДюВерне5, тест Вито Руссо6 и любое другое испытание, которому подвергается искусство в наши дни. Но Крюз писал о том, что знал, не одобряя и даже не объясняя — это просто было источником его творчества.
Захолустные регионы и забытые субкультуры являлись материалом для Крюза. Его романы, в том числе наиболее известный «Ястреб умирает» и наиболее признанный «Пир змей», были несовершенны, но мемуары его безупречны и являются одним из лучших произведений, когда-либо написанных американцами. Карьере Крюза стукнуло уже десять лет, на его счету было шесть романов, когда его издатель отклонил предложенную ему автобиографическую рукопись. Мемуары, написанные в качестве реакции на этот отказ, отвечают на некоторые конкретные вопросы, а именно: откуда взялся их автор и как он стал писателем, а также задают более широкие: почему кто-то становится кем-то, как мы связываем наше прошлое с нашим будущим и почему некоторые вещи — книга, ее автор — избегают забвения.
* * *
Одно только название мемуаров заслуживает того, чтобы поразмыслить над ними в течение небольшой вечности. Книга «Детство: биография места», впервые опубликованная в 1978 году, недавно была переиздана в серии Penguin Classic. Детство, описанное на ее страницах, разворачивается в тридцатые-сороковые годы, а место, в котором оно проходит — округ Бэйкон, штат Джорджия. В названии книги двоеточием уравновешиваются две неправдоподобности: то, что описанные события действительно происходили в молодости одного человека, и то, что эти события, далеко не экстраординарные для своего времени или обстановки, представляют собой обычный опыт, разделяемый родственниками и сообществом.
Крюз родился в 1935 г. в округе Альма, примерно в двухстах милях к югу от Атланты, недалеко от болота Окефеноки, в однокомнатном доме, который его отец, используя поперечные пилы, клинья, молотки и топоры, построил на участке земли, расчищенном от сосен, зарослей пальметты и кустов желчника. Его родители, Рэй и Миртис, были фермерами-арендаторами и переезжали с одного участка на другой, в окружении соседей, ведущих такое же, почти натуральное хозяйство. У каждой семьи имелось так мало вещей, что все, чем они владели, можно было перечислить в паре предложений. «Семьи тогда были важны, — пишет Крюз, — и важны не потому, что детей можно было использовать в полях: собирать кукурузу, рыхлить землю под посадки хлопка, срезать листья картофеля в сырую погоду или помогать забивать свиней и все такого рода. Нет, семьи были важны, потому что единственное, что может иметь мужчина и быть уверенным в этом — большая семья».
Собственная семья Крюза являлась источником секретов и горестей. Его отец умер, когда Крюзу едва исполнилось два года, сердечный приступ во сне, настолько внезапный, что не разбудил ни жену, ни двух сыновей, с которыми он делил постель. Мать Крюза вышла замуж за своего деверя, Паскаля, и это держалось в тайне от Крюза много лет. Всевозможные родственники, в основном со стороны матери писателя, появляются и исчезают на страницах «Детства», одни несут утешение, юмор или мудрость, другие — злобу, плохие новости или ужасные советы. «Я происхожу из народа, который верит, что иметь родное место так же жизненно важно, как и биение собственного сердца», — пишет Крюз. Но поскольку его семья часто переезжала, «гоняла от столба к столбу», такого места у него не было. В результате он считает своим домом весь округ Бэйкон, а его мемуары полны местных персонажей: целитель Холлис Туми, которого «тянуло к сильным ожогам, как железные стружки к магниту»; самогонщик Твик Флетчим, однажды выстреливший в отца Крюза (он промахнулся, да и вообще это была всего лишь птичья дробь); Тетушка, бабушка лучшего друга Крюза, бывшая рабыня, убеждавшая маленького Харри, что он ходит во сне, потому что птица плюнула ему в рот; и Дурной Глаз Картер, человек настолько злой, что он отрубил руку другому персонажу, когда тот положил ее на столб его забора. («Двое родственников Дурного Глаза Картера были убиты в схватке за отрубленную руку», — пишет Крюз, поясняя, что потерявший конечность человек «хотел похоронить ее по-христиански».)
Даже безымянные персонажи Крюза запоминаются не хуже, чем главные герои иных мемуаров. Возьмем, к примеру, погонщиков мулов, идеальное воплощение — доморощенное, но поистине гомеровское — того места, откуда родом Крюз, и то, как умело он об этом пишет. «Муловод, — говорит Крюз об этих мастерах животноводства, — с точностью до года-двух может определить возраст мула». Мулы, продолжает он, теряют по два зуба в год, пока им не исполнится пять, но после этого определить их возраст становится все сложнее:
Тогда нужно проверить чашечки. У мулов и лошадей на концах каждого зуба есть маленькие впадины, называемые чашечками. Когда они едят кукурузу или если им в рот попадает песок, что случается на травяных пастбищах, эти чашечки стираются. С каждым годом они делаются все мельче, и к десяти годам мул становится, как говорят фермеры, гладкозубым. Когда чашечки полностью исчезают, у мула появляется заметный неправильный прикус – кривозубие. Начиная с десятилетнего возраста и до самой смерти животного, становится все труднее точно определить его возраст.
Впрочем, если вы настоящий муловод, то сможете определить возраст мула по тому, как посажены его конечности, как он ходит, насколько подвижны его суставы, какие у него болячки, блестит ли шерсть, брыкается ли он. Однако любой рынок предполагает мошенничество, и всегда найдется дантист, готовый за доллар, если он не очень толковый, или за пять, если он хорош, с помощью бормашины восстановить зубы мула, подобно тому, как продавец подержанных автомобилей может сбросить показания одометра. Может показаться, что мемуары Крюза — этакий «Моби-Мул», хотя весь экскурс по лошадям занимает всего несколько абзацев короткой прелюдии к истории о том, как мать Крюза заплатила двадцать долларов за мула по имени Пит, который останавливался каждые семьдесят ярдов, чтобы отдохнуть, но не потому что устал, а потому что перенял эту привычку от восьмидесятилетнего фермера, владевшего им раньше.
Описанию, как Крюз упал в котел с кипящей водой, предшествует подробный рассказ о забое свиней в округе Бэйкон. Писатель перемещается между несколькими регистрами — кулинарным, ветеринарным, бытовым, — используя, подобно поэту, весьма специфические слова: goozle, haslet, gallus, gambreling stick, cracklins, headcheese, heel strings. После Рождества, когда наступала глубокая зима, а урожай был убран, семьи собирались на гумне, чтобы забить свиней и заложить мясо в коптильню на будущий год. Температура воздуха на улице, достаточно холодная, чтобы свинина не испортилась, имела решающее значение, как и температура воды, в которую окунали туши: если она слишком горяча — шерсть прилипает и не снимается со шкуры; при подходящей — «шерсть соскальзывает гладко, как масло, оставляя белую, голую и совершенно прекрасную свинью».
Эта идеальная температура все еще оставалась настолько высокой, что ошпарила Крюза, которому было пять лет, когда он упал в воду во время игры в пятнашки с другими детьми. Писатель вспоминает, как сосед потянулся, чтобы вытащить его, а затем, словно он был одной из свиней, кожа на его руке соскользнула, как перчатка, с ногтями и всем остальным, и осталась лежать на земле.
Это был уже третий случай, когда жизнь Крюза едва не оборвалась. Годом ранее он проснулся с поджатыми под себя ногами, заболев, как выяснилось позже, полиомиелитом. Ему сказали, что он никогда больше не сможет ходить, и месяцы постельного режима оставили у мальчика ощущение, что он одновременно и благословлен, и проклят, что ему даны особые привилегии, но он подвергается бесконечному надзору и домыслам по поводу своего недуга. А за три года до этого, когда он был еще совсем маленьким, его отец опрыскивал табачные поля семьи от червей, пока две годовалые коровы бродили около бочки с ядом. Мать побежала их отогнать, а когда вернулась в дом, у Крюза из губ текла кровь, и он держал в руках сырую щелочь, которой она мыла полы. Они поспешили к врачу, а когда вернулись домой, коровы лежали мертвыми, наевшись яда в их отсутствие. «Как это было трагично и как типично, — пишет Крюз. — Мир, в котором жили люди, из которых я происхожу, имел так мало права на ошибку, на невезение, и когда что-то шло не так, это почти всегда влекло за собой другие несчастья».
* * *
Фермеры-арендаторы, лекари, целители, колдуньи: округ Бэйкон из книги Крюза населен людьми, знающими, как делать нечто — вещи, которые могут помочь вам выжить, если не убьют вас. И Крюз тоже умел кое-что, чему он научился у себя дома, так же, как и другие учились своему ремеслу. Рассказывать истории в округе Бэйкон были горазды все, и Крюз прислушивался к ним. Он использовал полученные знания, сочиняя истории о людях из каталогов Sears, Roebuck and Company. Эти персонажи неизменно плохо заканчивали, потому что именно в таком направлении развивалось большинство историй в округе. Мужчины травили байки о знакомых им людях, полные насилия и смерти, но почему-то всегда мрачновато-смешные; женщины рассказывали жуткие истории вообще о ком угодно. «Меня всегда пугали женщины», — пишет Крюз.
Например, писатель усаживает нас на пол в домике своей семьи, под большой квадратной стегальной рамой матери, и слушает, как она и другие женщины шьют, их наперстки и иглы щелкают, словно клавиши на пишущей машинке. «Пути Господни неисповедимы, — говорит одна из женщин. — Никто из нас не знает почему». Стегальщицы продолжают свою стаккато-проповедь о несомненности Божьих тайн и необходимости хранить веру, и тут наступает черед: «Завтра будет неделя, как я услышала рассказ о кое-чем, что действительно доводит до дрожи».
«Никто не спрашивает, что она слышала, — пишет Крюз. — Они знают, что она сама все расскажет. Иглы щелкают по наперсткам в натянутой тишине. Внизу, на полу, мы перестаем сосать, и сахарные сиськи замирают у нас между зубами». Эти «мы» — Крюз и двое других маленьких детей, но оно, это местоимение, включает и нас, читателей, поскольку рассказы о том, как Крюз учился писать, также являются прекрасной демонстрацией, насколько хорошо он это делает. Как и все рассказы Крюза, эта книга построена на дикции, столь своеобразной, что она ограничивается одной или двумя отрывочными фразами, на предложениях столь четких, что ими все будто бы и сказано, и на персонажах, которых невозможно забыть.
То, что Вулф писала о Диккенсе, справедливо и для Крюза: он обладает невероятной способностью давать характеристики и рисует цельные фигуры с поразительной простотой. Эти люди могли бы показаться карикатурами, если бы не тот факт, что их видят детские глаза и воспринимает детский разум: с его вниманием, любопытством и трепетом. Детство Крюза диккенсовское и в других отношениях, которые почти немыслимы в современном ватном мире, обремененном безопасностью. Ему нравилось представлять себе жизни моделей из каталога Sears, потому что они казались ему совершенно неправдоподобными: ни у кого из них не было шрамов, у всех наличествовали полные комплекты пальцев, зубов и конечностей. Люди же в его мире жили искалеченными и отмеченными тяжелым трудом и тяжелой жизнью.
Описанию, как Крюз упал в котел с кипящей водой, предшествует подробный рассказ о забое свиней в округе Бэйкон. Писатель перемещается между несколькими регистрами — кулинарным, ветеринарным, бытовым, — используя, подобно поэту, весьма специфические слова: goozle, haslet, gallus, gambreling stick, cracklins, headcheese, heel strings. После Рождества, когда наступала глубокая зима, а урожай был убран, семьи собирались на гумне, чтобы забить свиней и заложить мясо в коптильню на будущий год. Температура воздуха на улице, достаточно холодная, чтобы свинина не испортилась, имела решающее значение, как и температура воды, в которую окунали туши: если она слишком горяча — шерсть прилипает и не снимается со шкуры; при подходящей — «шерсть соскальзывает гладко, как масло, оставляя белую, голую и совершенно прекрасную свинью».
Эта идеальная температура все еще оставалась настолько высокой, что ошпарила Крюза, которому было пять лет, когда он упал в воду во время игры в пятнашки с другими детьми. Писатель вспоминает, как сосед потянулся, чтобы вытащить его, а затем, словно он был одной из свиней, кожа на его руке соскользнула, как перчатка, с ногтями и всем остальным, и осталась лежать на земле.
Это был уже третий случай, когда жизнь Крюза едва не оборвалась. Годом ранее он проснулся с поджатыми под себя ногами, заболев, как выяснилось позже, полиомиелитом. Ему сказали, что он никогда больше не сможет ходить, и месяцы постельного режима оставили у мальчика ощущение, что он одновременно и благословлен, и проклят, что ему даны особые привилегии, но он подвергается бесконечному надзору и домыслам по поводу своего недуга. А за три года до этого, когда он был еще совсем маленьким, его отец опрыскивал табачные поля семьи от червей, пока две годовалые коровы бродили около бочки с ядом. Мать побежала их отогнать, а когда вернулась в дом, у Крюза из губ текла кровь, и он держал в руках сырую щелочь, которой она мыла полы. Они поспешили к врачу, а когда вернулись домой, коровы лежали мертвыми, наевшись яда в их отсутствие. «Как это было трагично и как типично, — пишет Крюз. — Мир, в котором жили люди, из которых я происхожу, имел так мало права на ошибку, на невезение, и когда что-то шло не так, это почти всегда влекло за собой другие несчастья».
* * *
Фермеры-арендаторы, лекари, целители, колдуньи: округ Бэйкон из книги Крюза населен людьми, знающими, как делать нечто — вещи, которые могут помочь вам выжить, если не убьют вас. И Крюз тоже умел кое-что, чему он научился у себя дома, так же, как и другие учились своему ремеслу. Рассказывать истории в округе Бэйкон были горазды все, и Крюз прислушивался к ним. Он использовал полученные знания, сочиняя истории о людях из каталогов Sears, Roebuck and Company. Эти персонажи неизменно плохо заканчивали, потому что именно в таком направлении развивалось большинство историй в округе. Мужчины травили байки о знакомых им людях, полные насилия и смерти, но почему-то всегда мрачновато-смешные; женщины рассказывали жуткие истории вообще о ком угодно. «Меня всегда пугали женщины», — пишет Крюз.
Например, писатель усаживает нас на пол в домике своей семьи, под большой квадратной стегальной рамой матери, и слушает, как она и другие женщины шьют, их наперстки и иглы щелкают, словно клавиши на пишущей машинке. «Пути Господни неисповедимы, — говорит одна из женщин. — Никто из нас не знает почему». Стегальщицы продолжают свою стаккато-проповедь о несомненности Божьих тайн и необходимости хранить веру, и тут наступает черед: «Завтра будет неделя, как я услышала рассказ о кое-чем, что действительно доводит до дрожи».
«Никто не спрашивает, что она слышала, — пишет Крюз. — Они знают, что она сама все расскажет. Иглы щелкают по наперсткам в натянутой тишине. Внизу, на полу, мы перестаем сосать, и сахарные сиськи замирают у нас между зубами». Эти «мы» — Крюз и двое других маленьких детей, но оно, это местоимение, включает и нас, читателей, поскольку рассказы о том, как Крюз учился писать, также являются прекрасной демонстрацией, насколько хорошо он это делает. Как и все рассказы Крюза, эта книга построена на дикции, столь своеобразной, что она ограничивается одной или двумя отрывочными фразами, на предложениях столь четких, что ими все будто бы и сказано, и на персонажах, которых невозможно забыть.
То, что Вулф писала о Диккенсе, справедливо и для Крюза: он обладает невероятной способностью давать характеристики и рисует цельные фигуры с поразительной простотой. Эти люди могли бы показаться карикатурами, если бы не тот факт, что их видят детские глаза и воспринимает детский разум: с его вниманием, любопытством и трепетом. Детство Крюза диккенсовское и в других отношениях, которые почти немыслимы в современном ватном мире, обремененном безопасностью. Ему нравилось представлять себе жизни моделей из каталога Sears, потому что они казались ему совершенно неправдоподобными: ни у кого из них не было шрамов, у всех наличествовали полные комплекты пальцев, зубов и конечностей. Люди же в его мире жили искалеченными и отмеченными тяжелым трудом и тяжелой жизнью.
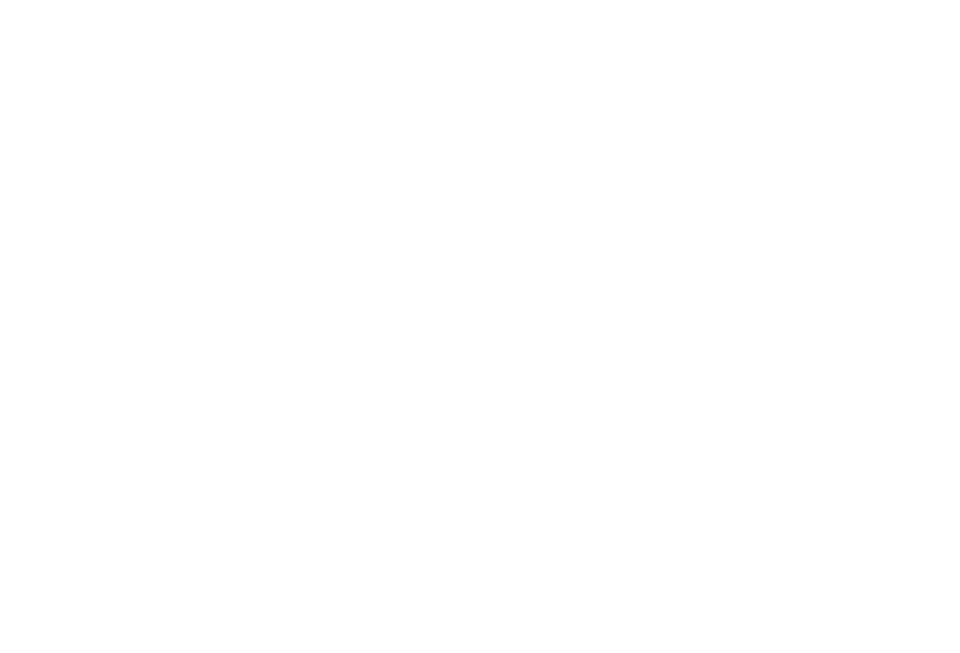
Так было не только на поверхности, но и в глубине души. Крюз признавал не только уродство округа Бэйкон, но и красоту, и не чурался первого. В самом начале «Детства» рассказывается о том, как отец Крюза «словил гонорею» от «плосколицей семинолки». Позже «самый плохой человек в округе» использует расовое оскорбление в качестве «ласкового» прозвища для своей жены, а тетя одергивает Крюза, когда он обращается к чернокожему мужчине уважительным словом «мистер», чтобы объяснить ему, что он должен использовать то же самое ругательство. Отец друга регулярно избивает всех своих родных, «пока не отлупит их достаточно, чтобы заставить слушаться», а отчим Крюза угрожает его семье кулаками и двенадцатым калибром, пока мать будущего писателя не забирает детей и не убегает. Она говорит плачущему Крюзу, замерзшему и уставшему от ночной прогулки, чтобы он перестал мечтать о возвращении к отцу. «Желай в одну руку, сри в другую, — говорит она. — Увидишь, какая из них наполнится первой».
* * *
Мы все оставляем детство позади, но не все оставляем позади всё, как это сделал Харри Крюз. Сначала его мать перевезла сыновей на сто миль южнее, в Джексонвилл, штат Флорида; затем Крюз отправился в Корпус морской пехоты, а в конце концов поступил в Университет Флориды по программе квот для военнослужащих. Получив диплом о высшем образовании, он стал профессором творческого письма и преподавал в Гейнсвилле в течение тридцати лет. Любой из этих переездов уводил его все дальше от округа Бэйкон — если не в милях, то в вехах, каждая из которых отчуждала его больше, чем предыдущая.
Биография Теда Гелтнера «Кровь, кости и мозги»7, вышедшая в 2016 году, рассказывает об остальных семидесяти годах жизни Крюза после шести, описанных в «Детстве». В Гейнсвилле Крюз стал помощником романиста и критика Эндрю Лайтла, соратника Роберта Пенна Уоррена и Аллена Тейта. Крюз ненавидел пригороды и торговые центры, как и любой южный аграрий, но он слишком много знал о натуральном хозяйстве, чтобы защищать такой образ жизни; он происходил из другого класса и пришел к иной, чем у большинства аграриев, политике. Это было верно и в отношении того, что он позже назвал «вирусом расизма», которым, по его утверждению, он никогда не заражался, хотя в детстве был подвержен ему при каждом вдохе. Лайтл учил Крюза ремеслу — как оттачивать его, и как преподавать, — но в итоге Крюз восстал против своего учителя и против творческого письма. Его отторгал образ жизни среднего класса, который предлагала университетская среда, и он действовал, нарушая ее нравы и преступая ее правила. В личной жизни, остававшейся такой же бурной, как и в детстве, он также совершал проступки. Он дважды женился и разводился с одной и той же женщиной, они потеряли своего первенца, когда мальчик, которому не было еще и четырех лет, утонул в соседском бассейне.
Темп выпуска по роману в год на протяжении большей части шестидесятых и семидесятых годов сменился тремя десятилетиями, в течение которых Крюз, по его собственному признанию, не был трезвым ни дня. Он пил спиртное, употреблял кокаин, дилаудид, дарвон, героин, метаквалон и любые другие наркотики, которые мог достать; в перерывах между запоями, реабилитационными центрами и романами со студентками он написал несколько десятков очерков и статей для журналов, включая Playboy и Esquire. Большую часть своей жизни Крюз выглядел так, будто ему самое место за барной стойкой или за решеткой: его голова была широкой, как и плечи, морщины — глубокими, как борозды на поле, и он демонстрировал столько мышц и татуировок, сколько позволяла погода. Много лет он оставался одержим спортом – бодибилдингом, боксом, драг-рейсингом, собачьими боями, каратэ, ястребиной охотой. Работая над материалом о трубопроводе на Аляске, он проснулся однажды утром с черной петлей на одном из локтей. Спустя годы он покрыл руку улыбающимся черепом и каллиграфически выведенными словами стихотворения Э. Э. Каммингса: «Как вам ваш голубоглазый мальчик, мистер Смерть?»
В романах Крюза, многие из которых не столько заканчиваются, сколько прекращаются после убийства главного героя, смерть часто — слишком часто — становилась движущей силой сюжета. Его первый роман «Певец госпела», также переизданный Penguin, завершается тем, что главный герой вешается на дереве после того, как срывается его последнее выступление; седьмой роман «Проклятие цыгана» в конце показывает, что вся книга это признание в убийстве главного героя, глухого Марвина Молара, живущего в спортзале, где он работает исключительно над верхней частью тела, поскольку у него культи вместо ног. Крюз, как и Тарантино, любил, по его словам, «людей с особым отношением к Богу», тех, кого другие называли фриками — ему самому пришлось пережить подобное во время заболевания полиомиелитом. В его романе «Автомобиль» Герман Мак из Автотауна съедает целый Ford Maverick по полфунта за раз, сдавая каждый день металл, чтобы продукты его кишечника можно было продавать в виде сувенирных брелоков. В книге «Нагие в Садовых Холмах» действуют шестисотфунтовый фосфатный магнат Мейхью Аарон и его слуга Джон Генри Уильямс, который весит девяносто фунтов.
Мрачные развязки в произведениях Крюза иногда кажутся надуманными, но финал «Детства» — одно из самых душераздирающих изгнаний со времен ангела, взявшего в руки огненный меч в Книге Бытия. Он разворачивается в кратчайшем эпилоге, висящем в конце, словно ценник. Прошло два десятилетия, Крюз вернулся домой после службы в морской пехоте и работает на табачном поле с двоюродными братьями в июльский день, такой жаркий, что он проклинает солнце — кощунство для мальчиков, видящих, каким он стал. «Я стоял там, чувствуя, как далеко осталось это место и эти люди, — пишет он, — и в то же время понимая, что никогда не получится оставить их полностью».
Многие из нас чувствуют себя где-то между корнями и ветвями. Среди писателей Крюз находится в хорошей компании: это дерн, нарезанный Шеймасом Хини в «Копателях»8, и это самое длинное путешествие в мире, описанное Норманом Подгорецем в «Становлении»9. Хотя тон «Детства» не назовешь вдохновляющим, сама книга по сути своей такова: мы знаем, что маленький мальчик вырастает писателем, которым он всегда мечтал стать, пусть даже его книги не продавались хорошо, или получали плохие отзывы, и сейчас их настолько трудно найти, что старые экземпляры в мягкой обложке переходят от одного владельца к другому, точно редкие пластинки.
Несколько раз в жизни Крюзу казалось, что ему вот-вот улыбнется удача. Элвис собирался сыграть главную роль в экранизации «Певца госпела», а когда с этим не вышло, Том Джонс купил права, но фильм так и не был снят. Позже его творчеством заинтересовалась Мадонна, а Шон Пенн дал ему эпизодическую роль убитого горем отца в своем режиссерском дебюте «Индеец-беглец», но, несмотря на надежды и слухи, ни одна из книг Крюза так и не была экранизирована. Ким Гордон позаимствовала его имя для малоизвестной панк-группы, которую она создала, и выпустила альбом с названиями треков, отсылающими к его творчеству. Затем она занялась группой Sonic Youth. Слава оказалась для Крюза такой же неловкой и нестабильной, как академия — еще две коровы, которые передохли одна за другой.
* * *
Как и многое в жизни писателя, «Детство» уберегли от катастрофы. Гелтнер подробно рассказывает в своей биографии, как Крюз передал черновик мемуаров под названием «Дубль 38», охватывающий первые тридцать восемь лет его жизни, известному редактору Роберту Готлибу, работавшему в то время в издательстве Knopf. Готлиб увидел в нем то, чем он и был: дремучий ком незавершенных и бессвязных автобиографических идей, включая, что особенно прискорбно, наркотический травелог, в котором Крюз пытался пройти по Аппалачской тропе от гор Голубого хребта в Джорджии до конференции писателей «Хлебный каравай» в Вермонте. Забудьте о тридцати восьми годах, — сказал Готлиб Крюзу, — первые восемь являются самыми лучшими. В эти годы, перефразируя изречение Руссо, было все, что необходимо для понимания вашей жизни.
Готлиб был прав, но писателю тяжело давалось следование подобным советам. Он любил говорить своим студентам: секрет писательского мастерства заключается в том, чтобы «положить задницу на стул», но впервые в жизни Крюз столкнулся с творческим кризисом. Он взял в привычку сидеть один в темноте и наговаривать на магнитофон, пытаясь подражать забытым голосам и воскрешать утраченные жизни. Когда он закончил работу, издательство Knopf не опубликовало мемуары, но в конце концов это сделали Harper & Row.
Сегодня «Детство», скорее всего, было бы преподнесено как инсайдерский рассказ о глубинной Америке или как реклама американской мечты, но Крюз возлагал на книгу более личные надежды. «Когда я сел писать, — объяснял он позднее, — мой умерший отец и его брат, который тоже сделался моим отцом, преследовали меня и жили в моих снах — снах, которые были неразделимой смесью невыносимого и невыразимого, хорошего и плохого. Я слишком многого не понимал. Я хотел понять, чтобы перестать думать об этом. Мне казалось, что если я смогу пережить все заново и изложить это подробным, конкретным языком, то я очищусь». Мемуары не помогли. «Это почти убило меня, но ничего не очистило», — пишет он.
Он знал, что история, даже наша личная, может принять форму мифа, если мы ей позволим, и намекнул на это в самом начале мемуаров: «Мое первое воспоминание восходит ко временам за десять лет до моего рождения, оно происходит в месте, где я никогда не был и включает в себя моего отца, которого я никогда не знал». Далее он пересказывает то, что ему когда-то поведали. Многое из того, что мы знаем о мире, получено из вторых рук, как и все, что нам известно о прошлом, и мы демонизируем или мифологизируем его на свой страх и риск. Конечно, можно найти способ дорожить этим, но Крюз хорошо знал, что лучше не отвергать мир, который его создал, и не романтизировать то, что он едва пережил. Прелесть книги «Детство: биография места» в том, что она оживляет ностальгию, а затем уничтожает ее. Крюз никогда не пишет, что тогда было лучше, или что лучше сейчас, а только то, что мир такой, какой есть, и что все было именно так. «Выживание, — говорится в эпиграфе книги, — само по себе триумф».
* * *
Мы все оставляем детство позади, но не все оставляем позади всё, как это сделал Харри Крюз. Сначала его мать перевезла сыновей на сто миль южнее, в Джексонвилл, штат Флорида; затем Крюз отправился в Корпус морской пехоты, а в конце концов поступил в Университет Флориды по программе квот для военнослужащих. Получив диплом о высшем образовании, он стал профессором творческого письма и преподавал в Гейнсвилле в течение тридцати лет. Любой из этих переездов уводил его все дальше от округа Бэйкон — если не в милях, то в вехах, каждая из которых отчуждала его больше, чем предыдущая.
Биография Теда Гелтнера «Кровь, кости и мозги»7, вышедшая в 2016 году, рассказывает об остальных семидесяти годах жизни Крюза после шести, описанных в «Детстве». В Гейнсвилле Крюз стал помощником романиста и критика Эндрю Лайтла, соратника Роберта Пенна Уоррена и Аллена Тейта. Крюз ненавидел пригороды и торговые центры, как и любой южный аграрий, но он слишком много знал о натуральном хозяйстве, чтобы защищать такой образ жизни; он происходил из другого класса и пришел к иной, чем у большинства аграриев, политике. Это было верно и в отношении того, что он позже назвал «вирусом расизма», которым, по его утверждению, он никогда не заражался, хотя в детстве был подвержен ему при каждом вдохе. Лайтл учил Крюза ремеслу — как оттачивать его, и как преподавать, — но в итоге Крюз восстал против своего учителя и против творческого письма. Его отторгал образ жизни среднего класса, который предлагала университетская среда, и он действовал, нарушая ее нравы и преступая ее правила. В личной жизни, остававшейся такой же бурной, как и в детстве, он также совершал проступки. Он дважды женился и разводился с одной и той же женщиной, они потеряли своего первенца, когда мальчик, которому не было еще и четырех лет, утонул в соседском бассейне.
Темп выпуска по роману в год на протяжении большей части шестидесятых и семидесятых годов сменился тремя десятилетиями, в течение которых Крюз, по его собственному признанию, не был трезвым ни дня. Он пил спиртное, употреблял кокаин, дилаудид, дарвон, героин, метаквалон и любые другие наркотики, которые мог достать; в перерывах между запоями, реабилитационными центрами и романами со студентками он написал несколько десятков очерков и статей для журналов, включая Playboy и Esquire. Большую часть своей жизни Крюз выглядел так, будто ему самое место за барной стойкой или за решеткой: его голова была широкой, как и плечи, морщины — глубокими, как борозды на поле, и он демонстрировал столько мышц и татуировок, сколько позволяла погода. Много лет он оставался одержим спортом – бодибилдингом, боксом, драг-рейсингом, собачьими боями, каратэ, ястребиной охотой. Работая над материалом о трубопроводе на Аляске, он проснулся однажды утром с черной петлей на одном из локтей. Спустя годы он покрыл руку улыбающимся черепом и каллиграфически выведенными словами стихотворения Э. Э. Каммингса: «Как вам ваш голубоглазый мальчик, мистер Смерть?»
В романах Крюза, многие из которых не столько заканчиваются, сколько прекращаются после убийства главного героя, смерть часто — слишком часто — становилась движущей силой сюжета. Его первый роман «Певец госпела», также переизданный Penguin, завершается тем, что главный герой вешается на дереве после того, как срывается его последнее выступление; седьмой роман «Проклятие цыгана» в конце показывает, что вся книга это признание в убийстве главного героя, глухого Марвина Молара, живущего в спортзале, где он работает исключительно над верхней частью тела, поскольку у него культи вместо ног. Крюз, как и Тарантино, любил, по его словам, «людей с особым отношением к Богу», тех, кого другие называли фриками — ему самому пришлось пережить подобное во время заболевания полиомиелитом. В его романе «Автомобиль» Герман Мак из Автотауна съедает целый Ford Maverick по полфунта за раз, сдавая каждый день металл, чтобы продукты его кишечника можно было продавать в виде сувенирных брелоков. В книге «Нагие в Садовых Холмах» действуют шестисотфунтовый фосфатный магнат Мейхью Аарон и его слуга Джон Генри Уильямс, который весит девяносто фунтов.
Мрачные развязки в произведениях Крюза иногда кажутся надуманными, но финал «Детства» — одно из самых душераздирающих изгнаний со времен ангела, взявшего в руки огненный меч в Книге Бытия. Он разворачивается в кратчайшем эпилоге, висящем в конце, словно ценник. Прошло два десятилетия, Крюз вернулся домой после службы в морской пехоте и работает на табачном поле с двоюродными братьями в июльский день, такой жаркий, что он проклинает солнце — кощунство для мальчиков, видящих, каким он стал. «Я стоял там, чувствуя, как далеко осталось это место и эти люди, — пишет он, — и в то же время понимая, что никогда не получится оставить их полностью».
Многие из нас чувствуют себя где-то между корнями и ветвями. Среди писателей Крюз находится в хорошей компании: это дерн, нарезанный Шеймасом Хини в «Копателях»8, и это самое длинное путешествие в мире, описанное Норманом Подгорецем в «Становлении»9. Хотя тон «Детства» не назовешь вдохновляющим, сама книга по сути своей такова: мы знаем, что маленький мальчик вырастает писателем, которым он всегда мечтал стать, пусть даже его книги не продавались хорошо, или получали плохие отзывы, и сейчас их настолько трудно найти, что старые экземпляры в мягкой обложке переходят от одного владельца к другому, точно редкие пластинки.
Несколько раз в жизни Крюзу казалось, что ему вот-вот улыбнется удача. Элвис собирался сыграть главную роль в экранизации «Певца госпела», а когда с этим не вышло, Том Джонс купил права, но фильм так и не был снят. Позже его творчеством заинтересовалась Мадонна, а Шон Пенн дал ему эпизодическую роль убитого горем отца в своем режиссерском дебюте «Индеец-беглец», но, несмотря на надежды и слухи, ни одна из книг Крюза так и не была экранизирована. Ким Гордон позаимствовала его имя для малоизвестной панк-группы, которую она создала, и выпустила альбом с названиями треков, отсылающими к его творчеству. Затем она занялась группой Sonic Youth. Слава оказалась для Крюза такой же неловкой и нестабильной, как академия — еще две коровы, которые передохли одна за другой.
* * *
Как и многое в жизни писателя, «Детство» уберегли от катастрофы. Гелтнер подробно рассказывает в своей биографии, как Крюз передал черновик мемуаров под названием «Дубль 38», охватывающий первые тридцать восемь лет его жизни, известному редактору Роберту Готлибу, работавшему в то время в издательстве Knopf. Готлиб увидел в нем то, чем он и был: дремучий ком незавершенных и бессвязных автобиографических идей, включая, что особенно прискорбно, наркотический травелог, в котором Крюз пытался пройти по Аппалачской тропе от гор Голубого хребта в Джорджии до конференции писателей «Хлебный каравай» в Вермонте. Забудьте о тридцати восьми годах, — сказал Готлиб Крюзу, — первые восемь являются самыми лучшими. В эти годы, перефразируя изречение Руссо, было все, что необходимо для понимания вашей жизни.
Готлиб был прав, но писателю тяжело давалось следование подобным советам. Он любил говорить своим студентам: секрет писательского мастерства заключается в том, чтобы «положить задницу на стул», но впервые в жизни Крюз столкнулся с творческим кризисом. Он взял в привычку сидеть один в темноте и наговаривать на магнитофон, пытаясь подражать забытым голосам и воскрешать утраченные жизни. Когда он закончил работу, издательство Knopf не опубликовало мемуары, но в конце концов это сделали Harper & Row.
Сегодня «Детство», скорее всего, было бы преподнесено как инсайдерский рассказ о глубинной Америке или как реклама американской мечты, но Крюз возлагал на книгу более личные надежды. «Когда я сел писать, — объяснял он позднее, — мой умерший отец и его брат, который тоже сделался моим отцом, преследовали меня и жили в моих снах — снах, которые были неразделимой смесью невыносимого и невыразимого, хорошего и плохого. Я слишком многого не понимал. Я хотел понять, чтобы перестать думать об этом. Мне казалось, что если я смогу пережить все заново и изложить это подробным, конкретным языком, то я очищусь». Мемуары не помогли. «Это почти убило меня, но ничего не очистило», — пишет он.
Он знал, что история, даже наша личная, может принять форму мифа, если мы ей позволим, и намекнул на это в самом начале мемуаров: «Мое первое воспоминание восходит ко временам за десять лет до моего рождения, оно происходит в месте, где я никогда не был и включает в себя моего отца, которого я никогда не знал». Далее он пересказывает то, что ему когда-то поведали. Многое из того, что мы знаем о мире, получено из вторых рук, как и все, что нам известно о прошлом, и мы демонизируем или мифологизируем его на свой страх и риск. Конечно, можно найти способ дорожить этим, но Крюз хорошо знал, что лучше не отвергать мир, который его создал, и не романтизировать то, что он едва пережил. Прелесть книги «Детство: биография места» в том, что она оживляет ностальгию, а затем уничтожает ее. Крюз никогда не пишет, что тогда было лучше, или что лучше сейчас, а только то, что мир такой, какой есть, и что все было именно так. «Выживание, — говорится в эпиграфе книги, — само по себе триумф».


