Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Antonio Moresco. Clandestinità. Torino: Bollati Boringhieri, 1993.
Canti del caos. Milano: Arnoldo Mondadori, 2009. Первые две части этого романа-трилогии публиковались отдельно (Feltrinelli, 2001 и Rizzoli 2003). Для полного издания они были переработаны.
Le favole della Maria. Torino: Giulio Einaudi, 2007. За эту книгу в 2008 г. Мореско получил премию Андерсена.
Gli esordi. Milano: Feltrinelli, 1998.
Слова того же Сукиного Кота в «Песнях хаоса», стр. 107.
Буквально: «Ты будешь священником в вечности» (лат.). Это цитата из Пс. 109:4 («Ты священник вовек по чину Мелхиседека»), которая повторяется и объясняется в Евр. 7: 15-16 и 27 (применительно к Христу): «...по подобию Мелхиседека восстает Священник иной, Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей... Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого».
Gli incendiati. Milano: Arnoldo Mondadori, 2010.
Merda e luce. Milano: Effigie edizioni, 2007.
La santa. Torino: Bollati Boringhieri, 2000.
Стихотворение «Вода и огонь», пер. Алексея Прокопьева.
Вместе с эссе публикуются фрагменты из романа Антонио Мореско «Песни хаоса» (Canti del caos, 2001).
Преждепосле «Сгоревших»: Антонио Мореско, какой он есть будет...
Читатель-ирредентист, если ты один из тех, кто еще ждет литературного шедевра, предлагаю тебе познакомиться с писателем-идиотом, вбившим себе в голову, что он может такой шедевр создать.
(Антонио Мореско, «Песни хаоса»)
(Антонио Мореско, «Песни хаоса»)
Он появился неожиданно: вынырнул неизвестно откуда и начал предлагать издателям свою рукопись (где было три рассказа под общим заголовком «Подполье»). Почти как докучный и неприятный старик с мастурбационным парезом из «Песен хаоса»... Неожиданный «сценический выход» Антонио Мореско растянулся на пятнадцать лет — только потом книгу наконец опубликовали в туринском издательстве «Боллати Борингьери»1. Но к тому времени, как я прочла эту книжку, и, очень удивившись прочитанному, стала переводить рассказ из нее, произошло некое смещение: Мореско превратился в известного, даже скандально известного писателя, автора романа «Песни хаоса»2, весь тираж которого был напрочь и безнадежно распродан... Когда же я прочла «Сказки для Марии»3, которые Мореско сочинял по дороге в школу, провожая свою дочку в первый класс, и очень живо представляла себе эти провожания, потому что отец, например, рассказывал ей про принцессу с глазами «цвета трижды-три-девять», — муж этой выросшей девочки прислал мне письмо, в котором по-русски благодарил за перевод рассказа... Мне трудно представить себе, что нынешний Мореско — не тот человек, который писал «Подполье», дошедшее до меня очень поздно, через семнадцать лет. А может, в его — Мореско — случае и не надо этого представлять, ведь сам он говорит, что всю жизнь пишет одну и ту же книгу. Что и оставшееся до смерти время посвятит написанию одного-единственного романа, которой станет заключительной частью трилогии, связав воедино очень непохожие (в стилистическом плане) «Начала»4 и «Песни хаоса»...
Что такое «Начала»? Это, если верить тексту на суперобложке, автобиографический (500-страничный) роман, в котором автор описал три этапа своего жизненного пути: обучение в духовной семинарии, годы, отданные политической деятельности, когда он был агитатором какой-то (ни в одном интервью не названной) левой партии или группы, и, наконец, первые безуспешные попытки стать профессиональным литератором, найти издателя для своих книг...
В действительности речь в романе идет о чем-то совсем другом, и неслучайно три его части называются «Подмостки Тишины», «Подмостки Истории», «Подмостки Праздника». «Начала» — объяснение в любви к литературе, которая в представлении Мореско есть не что иное, как пронизывающий Вселенную свет:
Что такое «Начала»? Это, если верить тексту на суперобложке, автобиографический (500-страничный) роман, в котором автор описал три этапа своего жизненного пути: обучение в духовной семинарии, годы, отданные политической деятельности, когда он был агитатором какой-то (ни в одном интервью не названной) левой партии или группы, и, наконец, первые безуспешные попытки стать профессиональным литератором, найти издателя для своих книг...
В действительности речь в романе идет о чем-то совсем другом, и неслучайно три его части называются «Подмостки Тишины», «Подмостки Истории», «Подмостки Праздника». «Начала» — объяснение в любви к литературе, которая в представлении Мореско есть не что иное, как пронизывающий Вселенную свет:
И когда не останется даже стен этих башен, ни самих этих башен, когда не будет больше уха, способного расшифровать эти звуки, фонемы... а только след некоего изначального жеста, подобный судьбе созвездия... Тогда этот язык, продолжающий перемещаться в пространстве, язык, который, видимо, можно визуализировать, который можно представить себе с точки зрения археолога — как световой импульс, — возможно, покажется человеку, сидящему за клавиатурой терминала, лицом к открытому пространству, еще не обнаруженной, не расшифрованной письменностью... (…) Рука начнет сильнее стучать по клавишам. «Эврика! — скажет себе этот человек, в возбуждении откинув назад голову. — Я могу поднять со дна всю эту взбаламученную зашифрованную плазму, могу забросить ее еще дальше вперед, могу с ее помощью превзойти себя...»
Появляющийся в этом романе издатель по прозвищу Сукин Кот на самом деле не отвергает рукопись молодого писателя, а просто искушает его — в сцене, явно воспроизводящей евангельский рассказ об искушении Христа в пустыне; искушает, говоря о неуместности подобного отношения к литературе «в нынешние времена остаточных и клонированных книг»5
Не умничай. Для всего этого нет больше никакого пространства, нет будущего. Отныне и впредь — только комбинации, повторы, манипуляции, бессильные импульсы, отголоски отголосков. Мир выставлен на распродажу! Подлежит тотальной ликвидации! (…) По счастью, письменная история твоего языка заканчивается. Написанное на классной доске каждый раз стирают. То же произойдет и теперь, или ты не видишь, что — уже происходит? Ты что себе вообразил? Думаешь, есть какое-то иное пространство, иное измерение?
Еще прежде этого разговора герой романа в самом деле попадает в иное пространство: последовав за таинственной машиной, давно брошенной и закрытой брезентом, которая вдруг — как бы сама собой, без водителя, трогается с места, — он оказывается перед ярко освещенным домом, видит, как из машины выходит... Александр Пушкин и вместе с ним попадает на праздник, где беседуют и танцуют — среди прочих гостей — лесковский Очарованный странник и Смердяков, Сервантес и Эмили Дикинсон, а также один из персонажей романа «Начала», девушка Песка.
Впрочем, и вторая часть романа, если присмотреться к ней пристальнее, оказывается вовсе не описанием реального участия автора в политической борьбе, а очень своеобразным рассказом о преломлении этого опыта в его сознании, о разочаровании в истории. Разъезжая в качестве агитатора по дорогам пограничного района (пограничья между реальностью и фантазией?) в сопровождении своих странных товарищей — Дремы, слепца и рабочего с невидимым лицом, — рассказчик постепенно узнает, что фронт здесь проходит совсем по другой линии: настоящая борьба разворачивается между полковником перьеносцев и «воинами», отстаивающими честь некоей дамы, вдовы с дочерью, которую обманул и ограбил человек с вытатуированными на груди серпом и молотом...
Каждая часть «Начал» кончается вопросом и ответом, но я, в отличие от итальянских рецензентов романа, думаю, что каждый последующий ответ не отменяет, а дополняет предыдущий.
В конце первой части отец-настоятель говорит рассказчику (имея в виду его предстоящее посвящение в священнический сан) «Ты же знаешь Писание... Eris sacerdos in aeternum!6 … Ты уверен, что почувствовал призвание?» И тот отвечает: «Да». В конце второй части бывший соратник по борьбе задает ему вопрос: «Ты хотел бы стать воином?» И рассказчик, хоть и поморщившись, отвечает: «Да». Наконец, в самом конце книги Сукин Кот спрашивает: «Ты что, и дальше намерен переть вот так напролом, как ни в чем не бывало?» И тут же обращается с молитвой к Богу, просит Его даровать этому упрямцу легкую смерть — «за мгновение до того, как тот еще раз откроет свой дурацкий рот, чтобы произнести, как ни в чем не бывало, третье „Да"».
Священник (по своим функциям, а не по формальным признакам); воин; упрямец, влюбленный в праздник большой литературы — три ипостаси писателя в представлении Антонио Мореско.
Мореско всегда и везде пишет только о литературе. Но самой этой теме он придает широкий, по сути универсальный смысл:
Впрочем, и вторая часть романа, если присмотреться к ней пристальнее, оказывается вовсе не описанием реального участия автора в политической борьбе, а очень своеобразным рассказом о преломлении этого опыта в его сознании, о разочаровании в истории. Разъезжая в качестве агитатора по дорогам пограничного района (пограничья между реальностью и фантазией?) в сопровождении своих странных товарищей — Дремы, слепца и рабочего с невидимым лицом, — рассказчик постепенно узнает, что фронт здесь проходит совсем по другой линии: настоящая борьба разворачивается между полковником перьеносцев и «воинами», отстаивающими честь некоей дамы, вдовы с дочерью, которую обманул и ограбил человек с вытатуированными на груди серпом и молотом...
Каждая часть «Начал» кончается вопросом и ответом, но я, в отличие от итальянских рецензентов романа, думаю, что каждый последующий ответ не отменяет, а дополняет предыдущий.
В конце первой части отец-настоятель говорит рассказчику (имея в виду его предстоящее посвящение в священнический сан) «Ты же знаешь Писание... Eris sacerdos in aeternum!6 … Ты уверен, что почувствовал призвание?» И тот отвечает: «Да». В конце второй части бывший соратник по борьбе задает ему вопрос: «Ты хотел бы стать воином?» И рассказчик, хоть и поморщившись, отвечает: «Да». Наконец, в самом конце книги Сукин Кот спрашивает: «Ты что, и дальше намерен переть вот так напролом, как ни в чем не бывало?» И тут же обращается с молитвой к Богу, просит Его даровать этому упрямцу легкую смерть — «за мгновение до того, как тот еще раз откроет свой дурацкий рот, чтобы произнести, как ни в чем не бывало, третье „Да"».
Священник (по своим функциям, а не по формальным признакам); воин; упрямец, влюбленный в праздник большой литературы — три ипостаси писателя в представлении Антонио Мореско.
Мореско всегда и везде пишет только о литературе. Но самой этой теме он придает широкий, по сути универсальный смысл:
Если для литературы больше не будет открыто это иное измерение, человек окажется обедненным во всех своих биологических и духовных потенциях. Потеряв возможность быть причастным ко всему этому, я превращусь в недееспособное, опекаемое существо, в личность, потерявшую внутреннюю силу. Попытки низвести литературу до уровня хроники (то есть простого копирования и тиражирования того, что, как нам говорят, есть реальность), или опрокинуть ее в зеркально противоположную сферу чистого вымысла, столь же выхолощенную, как сфера хроники, — процедуры вовсе не безобидные и не лишенные последствий. Они способствуют формированию «одомашненных», неполноценных личностей.
(«Стена света», текст выступления Антонио Мореско в университете Тренто, 2007)
(«Стена света», текст выступления Антонио Мореско в университете Тренто, 2007)
Огромный, на тысячу с лишним страниц, роман «Песни хаоса» — о том, как пишется этот и любой другой (настоящий) роман. Впрочем, это очень странная книга, в которой смешано многое.
В одном интервью, в разговоре с Ирене Палладини, Мореско сказал:
В одном интервью, в разговоре с Ирене Палладини, Мореско сказал:
Приступая к «Песням хаоса», я сперва думал, что буду вести себя как писатель XIX века. Я тоже, на свой манер, спустился в рудник, только в моем случае это был рудник, поставляющий человеческие тела. В этом романе я описываю рабочих, шахтеров, которые обслуживают гигантскую машину порнографии. Потом, работая над книгой, я быстро понял, что мне неинтересно писать репортаж-хронику, что я не хочу создавать документальный роман.
Культура, общество без «иного измерения» превращаются, согласно Мореско, в общество поголовного рабства, поголовной импотенции, порнографии. Но каждый человек сам решает, подчиниться такому порядку или нет, каждый сам проектирует свою жизнь. И всегда находится кто-то, кого не могут «одомашнить» даже профессиональные укротители...
Новый роман Мореско получился очень жестким (в нем описана, среди прочего, современная индустрия экстремального порно), и смешным, и сказочным — все сразу и вместе.
Издатель Сукин Сын требует, чтобы несостоявшийся писатель Сумасброд написал такой роман, который будет хорошо продаваться, а сам, когда книги еще и в помине нет, начинает рекламную кампанию... Сумасброд ничего не пишет, но встречает — и описывает издателю — все новых, более чем странных персонажей: «человека, постоянно меняющего места жительства», «спастического гинеколога», «женщину с ампутированными конечностями», «человека, который месит ногами дерьмо», «женщину с раздувающейся головой», «девушек с содранной кожей», священника-наркомана, Девушку-с-акне и другую, по имени Не-заткнуть-никаким-тампоном, чернокожую Принцессу... Этих персонажей не втиснуть в заданные рамки, они ведут самостоятельную жизнь. Они сами рассказывают о себе, и каждая из их «песней» представляет собой — как становится понятным в конце — символическую новеллу о поэте, об одной из ипостасей поэта.
Из этой хаотической магмы рождается на глазах у читателя целая планета, Земля, и появляется Бог, который хочет ее продать («Мир выставлен на распродажу! Речь идет лишь о том, чтобы извлечь максимальную выгоду из его ликвидации»); и новые Адам и Ева — Чунцин-3 и Шанхай-5 — спешат навстречу новому благовествованию, сами становятся благой вестью... И вся эта Вселенная с ее непрерывными катаклизмами помещается в голове одного человека, Мореско, и потом становится частью общечеловеческого хранилища таких частичек света, Семеннограда, и потом — с еще не представимыми последствиями — частицы эти переливаются через край, начинается потоп... И только тогда инвестированный — или инвестировавший себя, пожертвовавший собой — Сумасброд начинает писать роман, который мы уже прочитали и который уже существовал в его, Сумасброда, сознании задолго до того, как был написан...
Как мы узнаем из разговора двух неназванных лиц на могиле Сумасброда, этот задуманный им роман должен был стать не больше не меньше, как опровержением литературной концепции постмодернизма (и подготовивших это течение тенденций эпохи модерна), отрицанием нигилистического мировоззрения:
Новый роман Мореско получился очень жестким (в нем описана, среди прочего, современная индустрия экстремального порно), и смешным, и сказочным — все сразу и вместе.
Издатель Сукин Сын требует, чтобы несостоявшийся писатель Сумасброд написал такой роман, который будет хорошо продаваться, а сам, когда книги еще и в помине нет, начинает рекламную кампанию... Сумасброд ничего не пишет, но встречает — и описывает издателю — все новых, более чем странных персонажей: «человека, постоянно меняющего места жительства», «спастического гинеколога», «женщину с ампутированными конечностями», «человека, который месит ногами дерьмо», «женщину с раздувающейся головой», «девушек с содранной кожей», священника-наркомана, Девушку-с-акне и другую, по имени Не-заткнуть-никаким-тампоном, чернокожую Принцессу... Этих персонажей не втиснуть в заданные рамки, они ведут самостоятельную жизнь. Они сами рассказывают о себе, и каждая из их «песней» представляет собой — как становится понятным в конце — символическую новеллу о поэте, об одной из ипостасей поэта.
Из этой хаотической магмы рождается на глазах у читателя целая планета, Земля, и появляется Бог, который хочет ее продать («Мир выставлен на распродажу! Речь идет лишь о том, чтобы извлечь максимальную выгоду из его ликвидации»); и новые Адам и Ева — Чунцин-3 и Шанхай-5 — спешат навстречу новому благовествованию, сами становятся благой вестью... И вся эта Вселенная с ее непрерывными катаклизмами помещается в голове одного человека, Мореско, и потом становится частью общечеловеческого хранилища таких частичек света, Семеннограда, и потом — с еще не представимыми последствиями — частицы эти переливаются через край, начинается потоп... И только тогда инвестированный — или инвестировавший себя, пожертвовавший собой — Сумасброд начинает писать роман, который мы уже прочитали и который уже существовал в его, Сумасброда, сознании задолго до того, как был написан...
Как мы узнаем из разговора двух неназванных лиц на могиле Сумасброда, этот задуманный им роман должен был стать не больше не меньше, как опровержением литературной концепции постмодернизма (и подготовивших это течение тенденций эпохи модерна), отрицанием нигилистического мировоззрения:
«Каким грандиозным маневром охвата в клещи был этот так называемый модерн!» — слышу, как он почти кричит голосом пронзительным и резким, будто внезапно освободившимся и от языка, и от зубов. — Со своими утопиями, сперва позитивными, а потом негативными, которые все так или иначе были связаны с необходимостью свести к нулю, ограничить одной лишь горизонтальной плоскостью все существующее... Но сейчас клещи сомкнулись. Так что же хотел или мог сделать — или полагал, что делает — этот странный тип?»
Если прочитать «Сгоревших»7 после «Песен хаоса», не останется сомнений в том, что и этот маленький роман — аллегорическая сказка о свободном и несвободном сознании (о перерастании одного в другое в результате некоего поступка), о любви, которая воспринимается Мореско как сексуальная и творческая потенция, о Литературе. Литературе, которая, может, и превратилась в рабыню и шлюху, но все же вновь и вновь говорит кому-то: «Я — твоя любовь». Героиня «Сгоревших» — родная сестра Музы из «Песен хаоса» (Музы «с золотыми, совместно-сотворенными устами», как выражается старик с мастурбационным парезом, стр. 333), которая на вопрос полицейского инспектора Пики, какие отношения связывают ее с Сумасбродом, отвечает (стр. 100-101): «Я — его восточная путана, его муза; в нас двоих заключен центр этой истории, которая созидает себя, взрываясь. Я — его инкарнация, его излучение, он же — моя кровь и мое цветение. Наши с ним объятия плодоносны, они открывают новые границы, упраздняют горизонты». Сестра «девочки Не-заткнуть-никаким-тампоном с ее прекрасным белым полнокровным лицом, с высокими скулами черкешенки» (стр. 494). Сестра чернокожей Принцессы, которая совершает свадебное путешествие со своим спасителем — «человеком, постоянно меняющим места жительства»... И, конечно, пожары и взрывы в «Сгоревших» — картины творчества. Ведь и в «Песнях хаоса», в главе «Сукин Кот и Муза совокупляются, стоя, и между тем беседуют» (стр. 549-553), Муза говорит своему новому (или все тому же) возлюбленному: «Я не боюсь огня! … Не боюсь боли! … Разбей меня! Разруби! Взломай! Ведь я твоя Муза! … Ты лишил меня девственности! … Ты готов? … Хочешь, чтобы я поехала с тобой? … Тогда мы отправляемся! Снова отправляемся в путь!»
Да и вообще, как сказал в одном интервью Мореско, замысел «Сгоревших» вырос из двух маленьких фрагментов «Песен хаоса» — эпизода со спасением женщины из сгоревшего дома. А славянская женщина с дочерью, которую встречает в поезде рассказчик этого маленького романа, — не та ли обманутая вдова, чей разоренный дом пытались заново обустроить герой «Начал» и «заместитель» (его второе, юношеское Я)?
Да и вообще, как сказал в одном интервью Мореско, замысел «Сгоревших» вырос из двух маленьких фрагментов «Песен хаоса» — эпизода со спасением женщины из сгоревшего дома. А славянская женщина с дочерью, которую встречает в поезде рассказчик этого маленького романа, — не та ли обманутая вдова, чей разоренный дом пытались заново обустроить герой «Начал» и «заместитель» (его второе, юношеское Я)?
* * *
Между двумя совместившимися в моем сознании моментами — когда Антонио Мореско написал «Подполье» и когда я впервые узнала об этой книге и ее авторе — Мореско успел стать и автором пьес, которые все были поставлены в Италии: камерных пьес, вошедших в сборник «Дерьмо и свет»8 (так в «Песнях хаоса» Сукин Кот предлагал назвать еще не написанную книгу, стр. 204), а еще раньше — двухактной трагедии «Святая»9 , получившей премию на конкурсе «Семь спектаклей для нового итальянского театра XXI века», организованного Театральной ассоциацией Рима.
В уже упомянутом интервью Мореско говорил, что театр видится ему «не только как место мимезиса и вымысла, но и как место, где можно выставить в обнаженном виде жестокую правду».
Пьесы сборника «Дерьмо и свет» отличаются тем, что во всех них присутствует большое пространство Универсума — космической Вселенной и слившейся с нею Вселенной человеческой фантазии.
Пьеса «Твердь» на первый взгляд кажется жуткой и нелепой притчей о том, что мир может быть проникнут светом или представлять собой огромную свалку мусора — в зависимости от того, как мы сами на него смотрим; о провоцировании другого человека на безоглядный поступок и о последующем предательстве по отношению к этому человеку... Ощущение нелепости рождается потому, что поступок женщины как будто никому не нужен и ничем не мотивирован... Однако, вглядевшись в те мотивы этой пьесы, что повторяются в других произведениях Мореско, ты понимаешь, что речь и на этот раз идет о поэте и его Музе. Отрубленная окровавленная рука, оставляющая след во Вселенной, и есть общее творение этих двоих. Недаром о них говорится (Он говорит), что находятся они «среди мертвых звезд, в этом вертепе». Вертеп, собственно, — рождественские ясли Христа; здесь — в пьесе — в нем родится отрубленная рука («дитя света» — так это обозначено в «Песнях хаоса»); потом ее похоронят, произнесут на ее могиле надгробную речь (подобную речи на могиле Сумасброда в «Песнях хаоса»); а потом она снова появится, в начале пьесы, как падающая звезда с «огромным красным следом»... Сомневающийся, ужаснувшийся, способный на предательство Он и Она, готовая на все, лишь бы подтвердить возможность любви, — две инкарнации одного и того же человека, поэта, отчего конфликт между этими персонажами не становится менее трагичным...
В уже упомянутом интервью Мореско говорил, что театр видится ему «не только как место мимезиса и вымысла, но и как место, где можно выставить в обнаженном виде жестокую правду».
Пьесы сборника «Дерьмо и свет» отличаются тем, что во всех них присутствует большое пространство Универсума — космической Вселенной и слившейся с нею Вселенной человеческой фантазии.
Пьеса «Твердь» на первый взгляд кажется жуткой и нелепой притчей о том, что мир может быть проникнут светом или представлять собой огромную свалку мусора — в зависимости от того, как мы сами на него смотрим; о провоцировании другого человека на безоглядный поступок и о последующем предательстве по отношению к этому человеку... Ощущение нелепости рождается потому, что поступок женщины как будто никому не нужен и ничем не мотивирован... Однако, вглядевшись в те мотивы этой пьесы, что повторяются в других произведениях Мореско, ты понимаешь, что речь и на этот раз идет о поэте и его Музе. Отрубленная окровавленная рука, оставляющая след во Вселенной, и есть общее творение этих двоих. Недаром о них говорится (Он говорит), что находятся они «среди мертвых звезд, в этом вертепе». Вертеп, собственно, — рождественские ясли Христа; здесь — в пьесе — в нем родится отрубленная рука («дитя света» — так это обозначено в «Песнях хаоса»); потом ее похоронят, произнесут на ее могиле надгробную речь (подобную речи на могиле Сумасброда в «Песнях хаоса»); а потом она снова появится, в начале пьесы, как падающая звезда с «огромным красным следом»... Сомневающийся, ужаснувшийся, способный на предательство Он и Она, готовая на все, лишь бы подтвердить возможность любви, — две инкарнации одного и того же человека, поэта, отчего конфликт между этими персонажами не становится менее трагичным...
* * *
Темы, волнующие Мореско, и используемые им образы живут в мировой литературе с незапамятных пор. Это и греческая легенда об Амуре и Психее (Любви и Душе), и вся алхимическая литература с ее мотивом очистительного огня (вспомним хотя бы «Химическую свадьбу Кристиана Розенкрейца»), и новалисовский роман о призвании поэта, «Генрих фон Офтендингер», и многое, многое другое, вплоть до поэзии Пауля Целана («Ведь бросил же в башню тебя и тисам я слово сказал, / и вырвалось пламя оттуда, и мерку на платье сняло тебе, платье невесты» — так обращается поэт к своей Музе в «Маке и Памяти»10). Важно другое — что Мореско умеет вновь пережить и воскресить такое отношение к слову в нашу эпоху, слишком много болтающую о «смерти романа» и «смерти автора», — в эпоху господства (не абсолютного, к счастью) непритязательной или, еще хуже, массовой литературы. Он снова и снова пересказывает нам эти извечные истории о дерьме и свете наивным, чуть ли не детским голосом, к которому не пристает никакая грязь, — голосом Сказки. Как Мария Каллас в его же пьесе «Дуэт», сама не понимающая, что с ней происходит:
Откуда берется этот отчаянный подголосок из тех времен, когда я еще не имела голоса? Чем я была, прежде чем обрела голос? Чем был мой голос, прежде чем стал голосом? Я чувствую, как мой детский голос взмывает все выше, внутри оболочки — взрослого тела. Почему ни один композитор не осмелился написать оперу для детского голоса? Публика изумлена, все затаили дыхание, другие певцы смущены и испуганы, ибо должны теперь выдерживать конфронтацию с голосом изнасилованной и убитой девочки.
Перевод
Татьяны Баскаковой
Татьяны Баскаковой
Фрагменты из романа «Песни Хаоса» Антонио Мореско.
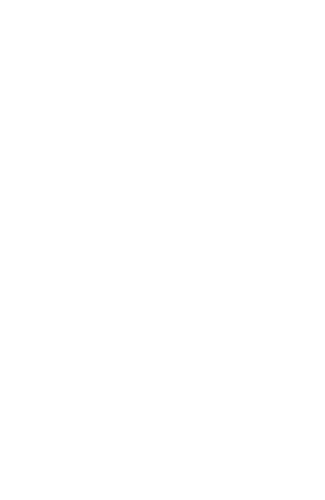
Предисловие
Читатель-ирредентист, если ты один из тех, кто еще ждет литературного шедевра, предлагаю тебе познакомиться с писателем-идиотом, вбившим себе в голову, что он может такой шедевр создать.
Я тотчас и сам объявлюсь, вживе. Позволь представиться: я известный издатель. Уже довольно давно, в трудный и деликатный период моей жизни, мне пришлось иметь дело с неким человеком, писателем, долгие годы работавшим в одиночку. Я несколько раз приглашал его в издательство, обсуждал с ним кое-какие проекты, немножко поводил его за нос. Тем более, что мы с ним уже были знакомы, в прошлом... Но я не мог опубликовать его книгу, я ему объяснял всеми возможными способами, что никто больше не хочет огромных книг-абсолютов, пространных описаний путешествий и так далее, что такое на рынке не ценится, все только кривят рот, а спросом пользуются литературные кальки, всякая халтура, афоризмы — то, что можно читать у телевизора, с телепультом в руке, или в наушниках, пока слушаешь музыку.
«Заметь, никого уже не интересуют такие вещи! — говорил я ему. — Сегодня каждый мужчина пользуется дистанционным ключом, каждая женщина — вибратором! Подумай, как тебе было бы легко освоить наконец секреты твоей профессии: уже намучившись с необозримыми структурами и наплававшись по длинным волнам, ты мог бы без труда создавать вещички на сто или двести страниц, предварительно набрасывая симпатичную схемку, «лесенку», что раз от разу получалось бы легче, удачнее, изящнее; и такие приятные упражненьица выстраивались бы в единый ряд, вплоть до дня твоей смерти, по одному в год, в два года, — ты бы использовал последние мгновения, еще остающиеся у тебя, у литературы, чтобы выгадать на этом деле хоть что-нибудь, пока огромные мультимедийные предприятия экономико-культурного толка еще растягивают карикатуру на этот жанр, становящийся все более маргинальным: речь идет о последних ритуалах, последних дивидендах, о проектах, связанных с переработкой отходов, — устаревших и уже превзойденных».
Я ему это повторял бесконечное множество раз. Горло себе сорвал. Но все без толку!
— Я задумал такое, такое... — сказал он мне как-то вечером, внезапно. Он даже не мог ничего объяснить, от смущения.
— Что же это? Ну что? — не отставал я.
И немного ослабил поводок, решил его подбодрить.
— Хочешь сказать, что задумал шедевр? Эпохальную книгу?
— Да нет! Кому нужны шедевры! — пробормотал он.
Больше я ничего из него не вытянул. Он где-то бродит по ночам, один; прогуливается, ничего не видя, по улицам. Не разберешь, что у него на уме. То он желает написать большую комическую книгу, то, в следующее мгновение, — трагическую. Непонятно даже, сочинит ли он ее в самом деле, в своем ли он вообще уме и не водит ли нас всех за нос. А потом, как я вижу, у него и со здоровьем неважно: случаются временные потери зрения, нервные срывы, приступы мигрени, бессонница, боли в суставах, а также предродовые и менструальные, даже ноги иногда отнимаются во время прогулок, не говоря уже о головокружениях и слишком порывистых жестах...
— Ну хорошо! Хорошо! — сдался я наконец. — Пока суд да дело, я напишу для тебя предисловие. Книга так или иначе появится. Уж коли будет предисловие, появится, хочешь не хочешь, и остальное!
А вдруг он все-таки передумает и не станет писать книгу, говорю я себе, — или не сможет ее написать, потому что, например, переберет дозу и совсем сорвется с тормозов? Что ж, тогда кто-нибудь другой напишет ее. Тот или этот, раньше или позже, но наверняка напишет. Важно, чтобы предисловие было готово, тогда, считай, работа в основном уже сделана!
— Договоримся по-честному! — сказал я ему. — Не думай, что, когда мы заварим эту кашу, я удовольствуюсь ролью пассивного издателя. Я тоже туда запущу свой клюв — буду перебивать тебя, давать советы.
То есть я его сразу предупредил, открытым текстом. Как он к этому отнесся, я не понял. Он улыбнулся. Но я даже не уверен, вправду ли он мне улыбнулся. Кто-нибудь из вас видел хоть раз его зубы? Если, конечно, они у него имеются! Блеснет что-то белесое в прорези губ, когда он чуть-чуть приоткроет этот свой странный рот... И непонятно, зубы ли то были, или он просто жевал беззубыми деснами полоску ткани... Мы с ним молча смотрели друг на друга, сколько-то времени... Ах да, совсем забыл: он дал мне прозвище Сукин Кот, а я ему — Сумасброд.
В общем, я оказался замешанным во все это, приступил к работе. Пишу предисловие к книге, которой пока еще нет, в этот момент на рубеже двух веков, двух тысячелетий. И кто знает, вдруг в самом деле — как уже неоднократно бывало в другие эпохи, — именно когда кажется, что такое совершенно невозможно, непредставимо... Вынырнет, как всегда, кто-то и пожелает — в очередной раз — пробить головой стену. Ты себе крутишься по жизни — и тут, как ни в чем не бывало, к тебе приближается такой тип, дожидавшийся в уголке, с этой своей всегдашней миной «вот-он-я».
«Тридцать лет непрерывных иллюзий, разочарований, обид... — возможно, думает он в этот миг, своей дурацкой башкой, — Глазные капли, геморроидальные свечи, предварительные наброски, фунгициды, дырявые носки, дефекации, отхаркивание мокроты... Но теперь, наконец, мой час пробил. Начинается самое главное, мы отправляемся в путь!»
Я спешно фиксирую время и место, где произошло это чрезвычайное событие.
«Без двадцати минут час. Скоро я пойду в туалет, чтобы помочиться, потом открою консервы с тунцом, добавлю немного воды к содержимому пакета с суповым концентратом, буду время от времени помешивать это варево ложкой, очищу себе яблоко. Вижу — из окна, у которого стоит мой письменный стол — двух японцев на балконе дома напротив: как они надевают только что снятые с веревки трусы. Даже не скажешь, который из двух худее другого, но трусы у них невероятно длинные и широкие. И развеваются вокруг бедер, как плащи! Несколько дней назад у меня возобновились головокружения. Постель не застелена, во дворе тишина, в комнате даже муха не пролетит. Дом опустел. Телефон отключен. Я наконец остался один».
Удачной тебе работы, идиот!
Я тотчас и сам объявлюсь, вживе. Позволь представиться: я известный издатель. Уже довольно давно, в трудный и деликатный период моей жизни, мне пришлось иметь дело с неким человеком, писателем, долгие годы работавшим в одиночку. Я несколько раз приглашал его в издательство, обсуждал с ним кое-какие проекты, немножко поводил его за нос. Тем более, что мы с ним уже были знакомы, в прошлом... Но я не мог опубликовать его книгу, я ему объяснял всеми возможными способами, что никто больше не хочет огромных книг-абсолютов, пространных описаний путешествий и так далее, что такое на рынке не ценится, все только кривят рот, а спросом пользуются литературные кальки, всякая халтура, афоризмы — то, что можно читать у телевизора, с телепультом в руке, или в наушниках, пока слушаешь музыку.
«Заметь, никого уже не интересуют такие вещи! — говорил я ему. — Сегодня каждый мужчина пользуется дистанционным ключом, каждая женщина — вибратором! Подумай, как тебе было бы легко освоить наконец секреты твоей профессии: уже намучившись с необозримыми структурами и наплававшись по длинным волнам, ты мог бы без труда создавать вещички на сто или двести страниц, предварительно набрасывая симпатичную схемку, «лесенку», что раз от разу получалось бы легче, удачнее, изящнее; и такие приятные упражненьица выстраивались бы в единый ряд, вплоть до дня твоей смерти, по одному в год, в два года, — ты бы использовал последние мгновения, еще остающиеся у тебя, у литературы, чтобы выгадать на этом деле хоть что-нибудь, пока огромные мультимедийные предприятия экономико-культурного толка еще растягивают карикатуру на этот жанр, становящийся все более маргинальным: речь идет о последних ритуалах, последних дивидендах, о проектах, связанных с переработкой отходов, — устаревших и уже превзойденных».
Я ему это повторял бесконечное множество раз. Горло себе сорвал. Но все без толку!
— Я задумал такое, такое... — сказал он мне как-то вечером, внезапно. Он даже не мог ничего объяснить, от смущения.
— Что же это? Ну что? — не отставал я.
И немного ослабил поводок, решил его подбодрить.
— Хочешь сказать, что задумал шедевр? Эпохальную книгу?
— Да нет! Кому нужны шедевры! — пробормотал он.
Больше я ничего из него не вытянул. Он где-то бродит по ночам, один; прогуливается, ничего не видя, по улицам. Не разберешь, что у него на уме. То он желает написать большую комическую книгу, то, в следующее мгновение, — трагическую. Непонятно даже, сочинит ли он ее в самом деле, в своем ли он вообще уме и не водит ли нас всех за нос. А потом, как я вижу, у него и со здоровьем неважно: случаются временные потери зрения, нервные срывы, приступы мигрени, бессонница, боли в суставах, а также предродовые и менструальные, даже ноги иногда отнимаются во время прогулок, не говоря уже о головокружениях и слишком порывистых жестах...
— Ну хорошо! Хорошо! — сдался я наконец. — Пока суд да дело, я напишу для тебя предисловие. Книга так или иначе появится. Уж коли будет предисловие, появится, хочешь не хочешь, и остальное!
А вдруг он все-таки передумает и не станет писать книгу, говорю я себе, — или не сможет ее написать, потому что, например, переберет дозу и совсем сорвется с тормозов? Что ж, тогда кто-нибудь другой напишет ее. Тот или этот, раньше или позже, но наверняка напишет. Важно, чтобы предисловие было готово, тогда, считай, работа в основном уже сделана!
— Договоримся по-честному! — сказал я ему. — Не думай, что, когда мы заварим эту кашу, я удовольствуюсь ролью пассивного издателя. Я тоже туда запущу свой клюв — буду перебивать тебя, давать советы.
То есть я его сразу предупредил, открытым текстом. Как он к этому отнесся, я не понял. Он улыбнулся. Но я даже не уверен, вправду ли он мне улыбнулся. Кто-нибудь из вас видел хоть раз его зубы? Если, конечно, они у него имеются! Блеснет что-то белесое в прорези губ, когда он чуть-чуть приоткроет этот свой странный рот... И непонятно, зубы ли то были, или он просто жевал беззубыми деснами полоску ткани... Мы с ним молча смотрели друг на друга, сколько-то времени... Ах да, совсем забыл: он дал мне прозвище Сукин Кот, а я ему — Сумасброд.
В общем, я оказался замешанным во все это, приступил к работе. Пишу предисловие к книге, которой пока еще нет, в этот момент на рубеже двух веков, двух тысячелетий. И кто знает, вдруг в самом деле — как уже неоднократно бывало в другие эпохи, — именно когда кажется, что такое совершенно невозможно, непредставимо... Вынырнет, как всегда, кто-то и пожелает — в очередной раз — пробить головой стену. Ты себе крутишься по жизни — и тут, как ни в чем не бывало, к тебе приближается такой тип, дожидавшийся в уголке, с этой своей всегдашней миной «вот-он-я».
«Тридцать лет непрерывных иллюзий, разочарований, обид... — возможно, думает он в этот миг, своей дурацкой башкой, — Глазные капли, геморроидальные свечи, предварительные наброски, фунгициды, дырявые носки, дефекации, отхаркивание мокроты... Но теперь, наконец, мой час пробил. Начинается самое главное, мы отправляемся в путь!»
Я спешно фиксирую время и место, где произошло это чрезвычайное событие.
«Без двадцати минут час. Скоро я пойду в туалет, чтобы помочиться, потом открою консервы с тунцом, добавлю немного воды к содержимому пакета с суповым концентратом, буду время от времени помешивать это варево ложкой, очищу себе яблоко. Вижу — из окна, у которого стоит мой письменный стол — двух японцев на балконе дома напротив: как они надевают только что снятые с веревки трусы. Даже не скажешь, который из двух худее другого, но трусы у них невероятно длинные и широкие. И развеваются вокруг бедер, как плащи! Несколько дней назад у меня возобновились головокружения. Постель не застелена, во дворе тишина, в комнате даже муха не пролетит. Дом опустел. Телефон отключен. Я наконец остался один».
Удачной тебе работы, идиот!
☐ ☐ ☐ ☐
— Ну что, убедился? Я-таки написал предисловие!
— Да, но предисловие — к чему?
— Как это «к чему»! Я вкратце рассказываю, как родилась идея книги, что послужило для нее образцом... «Илиада», «Божественная комедия», «Декамерон», «Дон Кихот», «Моби Дик», «Братья Карамазовы», «Девочка со спичками», список по желанию можно продолжить...
— Ты шутишь? И при чем тут «Девочка со спичками»?
— Очень даже «при чем»! Сам увидишь! Я мог бы назвать и другие имена. Главное, что сейчас никто больше не осмеливается подходить к своей эпохе с такими мерками!
— Но ведь на самом деле все не так! И вообще я еще ничегошеньки не родил!
— Знаю, знаю, но что с того! Лишний довод, что нам пора засучить рукава и скорее влезать во все это!
— А кстати, ты-то тут при чем? Почему употребляешь местоимение «мы»?
— Имею право! В качестве твоего издателя...
— Издателя? Но я никогда ничего не публиковал!
— Именно потому и, я бы даже сказал, прежде всего потому! Но теперь довольно. После всей болтовни, которой мы занимались, пора наконец приступить к делу. Мы должны дать голос всему тому, что до сих пор никогда не имело голоса. Вогнать в книгу иллюзию движения и иллюзию неподвижности, разбить вдребезги все планы, грамматические времена, пространства, заставить их вращаться и сгорать в огне, вновь запустить колеса, которые не вращались последнюю тысячу лет — или полтыщи, как минимум... Давай, покажи мне, что ты успел сделать!
— Но я пока ничего не сделал!
— Не может быть! Хоть какую-нибудь малость ты наверняка придумал, за столько-то времени!
— Да нет же, совсем ничего, уверяю тебя! Мелькнула, правда, половинчатая мыслишка — рассказать об одном пустячке... Но я ее так и не воплотил.
— Вот видишь? Так в чем она состояла?
— Да так... Ерунда какая-то, сон.
— Вперед! Я хочу этот сон услышать!
[...]
— Да, но предисловие — к чему?
— Как это «к чему»! Я вкратце рассказываю, как родилась идея книги, что послужило для нее образцом... «Илиада», «Божественная комедия», «Декамерон», «Дон Кихот», «Моби Дик», «Братья Карамазовы», «Девочка со спичками», список по желанию можно продолжить...
— Ты шутишь? И при чем тут «Девочка со спичками»?
— Очень даже «при чем»! Сам увидишь! Я мог бы назвать и другие имена. Главное, что сейчас никто больше не осмеливается подходить к своей эпохе с такими мерками!
— Но ведь на самом деле все не так! И вообще я еще ничегошеньки не родил!
— Знаю, знаю, но что с того! Лишний довод, что нам пора засучить рукава и скорее влезать во все это!
— А кстати, ты-то тут при чем? Почему употребляешь местоимение «мы»?
— Имею право! В качестве твоего издателя...
— Издателя? Но я никогда ничего не публиковал!
— Именно потому и, я бы даже сказал, прежде всего потому! Но теперь довольно. После всей болтовни, которой мы занимались, пора наконец приступить к делу. Мы должны дать голос всему тому, что до сих пор никогда не имело голоса. Вогнать в книгу иллюзию движения и иллюзию неподвижности, разбить вдребезги все планы, грамматические времена, пространства, заставить их вращаться и сгорать в огне, вновь запустить колеса, которые не вращались последнюю тысячу лет — или полтыщи, как минимум... Давай, покажи мне, что ты успел сделать!
— Но я пока ничего не сделал!
— Не может быть! Хоть какую-нибудь малость ты наверняка придумал, за столько-то времени!
— Да нет же, совсем ничего, уверяю тебя! Мелькнула, правда, половинчатая мыслишка — рассказать об одном пустячке... Но я ее так и не воплотил.
— Вот видишь? Так в чем она состояла?
— Да так... Ерунда какая-то, сон.
— Вперед! Я хочу этот сон услышать!
[...]
Песня Принцессы
Что я здесь делаю, я и сама не знаю. Родом я из центрально-африканской деревни, где живут банту.
Кто-то из вас, может, раз или два встречал меня, в вагоне метро — длинные бедра втиснуты в пестрые обтягивающие брючки, черные ступни втиснуты в стоптанные кроссовки или в эти... как их там... на каблуках; ладони светлые, ногти накрашены, — или на бульваре, где я до недавнего времени работала, вместе с другими африканскими путанами. Все выстроились в ряд: черные могучие ляжки, сапоги на головокружительных каблуках, купленные оптом на распродаже, из прозрачного пластика, который больно врезается в тело, или из кожзаменителя, — кое-где подпорченные, потому что накануне их надевала другая, и не всегда подходящие по размеру; груди, кажется, уже за пределами тела; мини-юбчонки едва прикрывают пуп, чтобы клиенты издали догадались о жесткой, как проволока, мочалке, что помещается у нас между ног; гладкие парики; черный поджарый сутенер в помятой шляпе облокотился о стену палаццо: тот же сутенер, что встречал нас на вокзале, когда я вместе с остальными девочками приехала из другого города — мы всегда занимаем сразу по нескольку купе, — и незадолго до прибытия на конечную станцию мы начали спешно гримироваться, маскироваться, передавая друг другу тюбики огненно-красной помады, чтобы накрасить большие, избыточно цветущие рты, и светлую тональную пудру, и кремы, и лак для ногтей на наших больших ступнях, привыкших ходить без всякой обуви по пыли и сухим экскрементам, а ногти у нас светлые... И вот он нас всех собрал у начала платформы, а после, всех скопом, отвез к одному из тех заброшенных фабричных складов, где нам грубо швыряют одежду, потребную для ночной работы, — если, конечно, мы не приезжаем уже готовыми; а там, на складе, все кидаются к куче тряпья, берут, что кому понравится; рвут вещи друг у друга из рук среди всей этой мерзости, вони; и одна переодевает трусы, смеясь или чертыхаясь, меняет гигиенический тампон; другая, высунув от напряжения язык, втискивается в бюстье, которое ей малó на два номера, и просит, чтобы сзади подтянула соседка, с которой она только что познакомилась или которую встретила здесь, случайно: девушка из той же или из соседней деревни, горланящая на том же местном наречии; тем временем сутенер, стоя в глубине помещения, злобно на нас поглядывает; как и его компаньоны, которые достают билеты на поезд, занимаются оформлением аренды этого склада, закупкой одежды и париков, перечислением процентов другим сутенерам, белым и черным и цветным, живущим в других странах, в самых разных местах: членам организации, которая функционирует от Африки аж досюда, перемещаясь через саванны и пустыни на самолетах и внедорожниках, дальше — на пароходах и поездах, а потом попадает вообще не знаю куда; которая поставляет свежую человечью плоть взамен уже отработанной, и отсылает обратно безнадежно больных, и ликвидирует трупы... И среди нас есть представительницы народа серер, и фульбе, и хауса, и бороро, и йоруба, и игбо; некоторые — еще почти девочки, они ссорятся из-за какой-то заколки для волос, из-за баночки пудры, а потом узнают друг друга получше, начинают дружить, как всегда происходит с подростками, которые вместе отправляются на войну. А потом — пожалуйте на панель, лицом к этим авто, которые бесконечным потоком медленно проезжают мимо; водитель высовывает голову, зажигает фары, чтобы лучше нас видеть, тогда как мы все выстроились в ряд, застыли на месте — сверкающие, инфантильные, надменные, — перед крошечными гостиницами, рассчитанными только на это, работающими всю ночь, в надежде, что кто-то приведет нас туда... если не затащит на заднее сиденье машины или не станет трахать где-то неподалеку, прямо на земле, без возможности помыться, возле мусорной свалки или сточной канавы, а то и тут же на месте, разложив на асфальте между одной машиной и другой; задница вся ободрана, исцарапана, когда мы наконец поднимаемся, вобрав в себя выпущенный клиентом заряд, — а то и в крови, если тебя ставили на карачки; черные ляжки блестят; кого-то из нас успели лишить невинности, накачать наркотой, заставили отсасывать так, что перекосился рот; жопы у многих в пене, они порвались, когда клиент вытаскивал наружу свой перепачканный член; о презервативах и речи нет... Мы — те, кто длинной процессией шествуем к вам из черной Африки; у нас длинные ляжки, потные и безупречно скроенные; в наших изголодавшихся вагинальных котлах закипает варево разнузданных крохотулек с алчными головками; когда мы стоим, вылупив глаза, под звездами, мы иногда чувствуем, как они вдруг просыпаются в нашем нутре, когда одна из машин замедляет ход и водитель высовывает из окна свою дурацкую голову: как уподобляются колонии крикливых обезьян, которые вдруг начинают беситься в лесу, в глубине лиственной кроны какого-нибудь огромного дерева, готовясь все вместе к агрессивному ритуалу войны. «Ах, почему ты не черная и внутри?» — сказал однажды, доброжелательно, один клиент, когда руками раздвигал мне ляжки и срамные губы, а я сидела голой задницей на земле, перед зажженными фарами припаркованной машины, в зоне изолированной случки, рядом с помойкой. «То есть совершенно черная, хочу я сказать: чтобы не было видно ничего, чтобы даже не разобрать, смотришь ли ты на что-то или нет, пребываешь ли где-то, внутри имеющего границы тела; так можно чувствовать себя в абсолютно темной зоне космоса, когда вокруг — только пустота и мрак и тишина, которая дышит... Принцесса, я на это надеялся...»
Вот так и получилось, что меня впервые назвали Принцессой...
Почему я оказалась здесь? Почему все наши оказались здесь? Внезапно, со всех концов моего континента, выплеснулись сюда, будто началось половодье? А вам-то зачем знать? Я не помню. Помню только реку. И себя внутри той реки.
Однажды, у себя в деревне, сидя на пороге хижины из соломы и грязи, я целый день смотрела на собаку: как она бредет, насквозь проткнутая стрелой. Я не поняла даже, сознает ли она, что ранена. Она ступала одеревенело, спокойно — по пыли, даже не особенно тараща глаза; описывала один круг за другим, все медленнее... Дни проходят. Сколько ни обводи глазами двор, все равно не увидишь ничего, кроме высохшей саранчи, обезьян с обглоданной головой, разрубленных змей. Что мне сказали, чтобы заставить приехать сюда? Обманули ли? Как это произошло? Что было? Кто это был? По каким дорогам я ехала? Какие земли видела? Вам-то что за дело! Вы-то не знаете, что такое пыль! Не помню я ни названий мест, ни имен, хотя столько всего насмотрелась. Я переходила из рук в руки. Путешествовала. Совершила свое путешествие. О чем я думала? Во что верила? Какие иллюзии строила? Что они мне обещали? Как я представляла себе, чем буду заниматься? Что думаю об этом теперь? Я-то свое путешествие совершила, а вы — совершите свое! Кто знает, что проносится в голове у рыбы за секунду до того, как она попадет в пасть затаившегося в грязи сома? Кто это разберет? Может, рыба совершенно спокойна. Но рыбы, к счастью, лишены голоса, они немы, а иначе нам бы пришлось заткнуть уши, чтобы не слышать криков, доносящихся с морей и океанов. Я помню реки, помню только реки. Сперва Санага, потом — великий Нигер. Потом были другие путешествия. Кто-то мне дал, впервые в жизни, пару закрытых туфель. Сказал, что теперь я должна привыкнуть к ним и всегда их носить. «Туфли!» — в ужасе воскликнула я. И тогда, единственный раз за все время, плакала — пока втискивала мои большие ступни в эти тюремные казематы, эти пыточные машины, и потом училась ходить, хватаясь за стены и выпучив глаза. Потом — новое путешествие. На машинах. Ночевки в разных местах. Впервые увиденные города. По двадцать человек в одной комнате. Потом — море, ночное путешествие на моторной лодке. Вода была темная, но в лицо попадали только холодные брызги... Когда путешествуешь, всегда на что-то надеешься. Каким бы ни было путешествие, даже если не знаешь его конечной цели... Остальное описать невозможно. То, что имеется в виду под «панелью». Я из тех, что всегда шагают, распрямив спину, всегда, упав, поднимаются. И я подружилась с одной фульбе: Аминой.
Я шагала, хватаясь за стены, в своих бесформенных башмаках. Мы приехали в большой город, потом в другой. Нас выводили на эти улицы, ярко освещенные даже днем. Что же тут особенно объяснять... Сколько нас было! Мне казалось, я все еще в Африке!
Каким бывает наш конец, спросите вы. Почему кошек, голубей, мышей порой видишь на улице мертвыми, но нас — никогда? Нас что, снова посылают домой, когда мы заболеваем? Когда умираем? Да кто же, скажите, возьмет на себя расходы? Я вспоминаю одну ночь после того, как попыталась бежать... «Подойди!» — сказал мне вдруг укротитель. В руке он держал лопату. Он дернул вверх молнию куртки, глаза у него сверкнули. Внезапно он схватил меня за руку, как можно схватить, поддавшись порыву, собственную дочь — очень любя ее и не контролируя своих действий. Я тоже сразу ему подчинилась, хоть у меня комок стоял в горле, и так сошла вниз по лестнице, с еще окровавленным ртом... одной рукой он держал меня, другой — лопату. «Возьми!» — сказал он, когда мы вышли из подъезда, прежде чем вскочил на большой сверкающий мотоцикл. Я села сзади него, держа лопату. Мотоцикл тронулся, полетел. Я держала лопату наперевес, чтобы ее не вырвал встречный ветер. Не знаю, может, я делала это не без умысла: мы долго ехали вдоль одной из наших африканских панелей, и все девочки, которые стояли с голыми ляжками вдоль кромки тротуара, когда видели, как я стрелой лечу мимо них, прижавшись к укротителю, и как покачивается в моей руке наклоненный скипетр лопаты, смотрели на меня, надменно откинув головы, и во взглядах их сверкали зависть и гордость. Мы мчались так еще долго — я и укротитель, и это копье — по улицам, сплошь забитым черными шлюхами и машинами со слепящими фарами. Потом — по более темным, окраинным шоссе, и вдалеке уже угадывались эти окружные барьеры из перфорированных многоэтажек, заснувших; а после мы оказались в зоне, какой я прежде не видела: в пустынной зоне мусорных свалок. Мы оба сошли с мотоцикла, но фара продолжала гореть, освещая молодое черное тело, обнаженное ниже пояса: эта женщина лежала ничком, вжавшись ртом в землю. Укротитель, держа мобильник против света, набрал одной рукой чей-то номер. «Да, она здесь, я нашел ее!» — вот все, что он произнес, прежде чем убрал телефон в футляр, подвешенный к ремню. Потом взглянул на меня. «Копай!» — приказал. Я посмотрела на женщину, когда укротитель ногой перевернул ее животом вверх. «Но она же банту!» — воскликнула, увидев ее лицо. Укротитель забрал у меня лопату, ткнул острием между ног женщины, оттуда сразу потекла кровь. «Не видишь, что это падаль? — сказал, возвращая лопату мне. — Ты что думаешь? Что мы оплатим обратный проезд такой вот падали, мертвой? Или деньги вы будете собирать? А как с документами? И всем прочим? С вами-то самими что будет? Копай!» Я начала копать, земля была рыхлая. Когда яма достаточно углубилась, укротитель спихнул в нее тело. Я стала кидать сверху землю. Живота уже не было видно, но, сколько я ни кидала, из земли все торчала верхушка блестящей и черной задницы, перепачканной кровью. Наконец и она скрылась под землей, и голова — но в последний момент укротитель успел сорвать парик из окрашенных перекисью прямых волос. Парик он встряхнул, чтоб очистить. Когда яма была полностью засыпана, он потоптался на ней, утрамбовывая землю. Потом сказал: «Ложись, Принцесса!» И поимел меня своим татуированным членом, на земле, с убежденностью, что так надо, на едва засыпанной могиле, в молчании. «Мне хорошо с тобой!» — только и сказал, в конце, прежде чем вскочить в седло мотоцикла. Я пристроилась у него за спиной, и мы проделали тот же путь в обратном направлении: промчались мимо череды других африканок, но теперь острие лопаты, которую я держала наперевес, как копье, было окрашено кровью, и я порой ловила на себе сверкающие, триумфальные взгляды, пока летела вперед, прижавшись щекой к спине укротителя, с зажмуренными глазами... Укротитель? Хотите знать, кто он, этот укротитель?
Кто-то из вас, может, раз или два встречал меня, в вагоне метро — длинные бедра втиснуты в пестрые обтягивающие брючки, черные ступни втиснуты в стоптанные кроссовки или в эти... как их там... на каблуках; ладони светлые, ногти накрашены, — или на бульваре, где я до недавнего времени работала, вместе с другими африканскими путанами. Все выстроились в ряд: черные могучие ляжки, сапоги на головокружительных каблуках, купленные оптом на распродаже, из прозрачного пластика, который больно врезается в тело, или из кожзаменителя, — кое-где подпорченные, потому что накануне их надевала другая, и не всегда подходящие по размеру; груди, кажется, уже за пределами тела; мини-юбчонки едва прикрывают пуп, чтобы клиенты издали догадались о жесткой, как проволока, мочалке, что помещается у нас между ног; гладкие парики; черный поджарый сутенер в помятой шляпе облокотился о стену палаццо: тот же сутенер, что встречал нас на вокзале, когда я вместе с остальными девочками приехала из другого города — мы всегда занимаем сразу по нескольку купе, — и незадолго до прибытия на конечную станцию мы начали спешно гримироваться, маскироваться, передавая друг другу тюбики огненно-красной помады, чтобы накрасить большие, избыточно цветущие рты, и светлую тональную пудру, и кремы, и лак для ногтей на наших больших ступнях, привыкших ходить без всякой обуви по пыли и сухим экскрементам, а ногти у нас светлые... И вот он нас всех собрал у начала платформы, а после, всех скопом, отвез к одному из тех заброшенных фабричных складов, где нам грубо швыряют одежду, потребную для ночной работы, — если, конечно, мы не приезжаем уже готовыми; а там, на складе, все кидаются к куче тряпья, берут, что кому понравится; рвут вещи друг у друга из рук среди всей этой мерзости, вони; и одна переодевает трусы, смеясь или чертыхаясь, меняет гигиенический тампон; другая, высунув от напряжения язык, втискивается в бюстье, которое ей малó на два номера, и просит, чтобы сзади подтянула соседка, с которой она только что познакомилась или которую встретила здесь, случайно: девушка из той же или из соседней деревни, горланящая на том же местном наречии; тем временем сутенер, стоя в глубине помещения, злобно на нас поглядывает; как и его компаньоны, которые достают билеты на поезд, занимаются оформлением аренды этого склада, закупкой одежды и париков, перечислением процентов другим сутенерам, белым и черным и цветным, живущим в других странах, в самых разных местах: членам организации, которая функционирует от Африки аж досюда, перемещаясь через саванны и пустыни на самолетах и внедорожниках, дальше — на пароходах и поездах, а потом попадает вообще не знаю куда; которая поставляет свежую человечью плоть взамен уже отработанной, и отсылает обратно безнадежно больных, и ликвидирует трупы... И среди нас есть представительницы народа серер, и фульбе, и хауса, и бороро, и йоруба, и игбо; некоторые — еще почти девочки, они ссорятся из-за какой-то заколки для волос, из-за баночки пудры, а потом узнают друг друга получше, начинают дружить, как всегда происходит с подростками, которые вместе отправляются на войну. А потом — пожалуйте на панель, лицом к этим авто, которые бесконечным потоком медленно проезжают мимо; водитель высовывает голову, зажигает фары, чтобы лучше нас видеть, тогда как мы все выстроились в ряд, застыли на месте — сверкающие, инфантильные, надменные, — перед крошечными гостиницами, рассчитанными только на это, работающими всю ночь, в надежде, что кто-то приведет нас туда... если не затащит на заднее сиденье машины или не станет трахать где-то неподалеку, прямо на земле, без возможности помыться, возле мусорной свалки или сточной канавы, а то и тут же на месте, разложив на асфальте между одной машиной и другой; задница вся ободрана, исцарапана, когда мы наконец поднимаемся, вобрав в себя выпущенный клиентом заряд, — а то и в крови, если тебя ставили на карачки; черные ляжки блестят; кого-то из нас успели лишить невинности, накачать наркотой, заставили отсасывать так, что перекосился рот; жопы у многих в пене, они порвались, когда клиент вытаскивал наружу свой перепачканный член; о презервативах и речи нет... Мы — те, кто длинной процессией шествуем к вам из черной Африки; у нас длинные ляжки, потные и безупречно скроенные; в наших изголодавшихся вагинальных котлах закипает варево разнузданных крохотулек с алчными головками; когда мы стоим, вылупив глаза, под звездами, мы иногда чувствуем, как они вдруг просыпаются в нашем нутре, когда одна из машин замедляет ход и водитель высовывает из окна свою дурацкую голову: как уподобляются колонии крикливых обезьян, которые вдруг начинают беситься в лесу, в глубине лиственной кроны какого-нибудь огромного дерева, готовясь все вместе к агрессивному ритуалу войны. «Ах, почему ты не черная и внутри?» — сказал однажды, доброжелательно, один клиент, когда руками раздвигал мне ляжки и срамные губы, а я сидела голой задницей на земле, перед зажженными фарами припаркованной машины, в зоне изолированной случки, рядом с помойкой. «То есть совершенно черная, хочу я сказать: чтобы не было видно ничего, чтобы даже не разобрать, смотришь ли ты на что-то или нет, пребываешь ли где-то, внутри имеющего границы тела; так можно чувствовать себя в абсолютно темной зоне космоса, когда вокруг — только пустота и мрак и тишина, которая дышит... Принцесса, я на это надеялся...»
Вот так и получилось, что меня впервые назвали Принцессой...
Почему я оказалась здесь? Почему все наши оказались здесь? Внезапно, со всех концов моего континента, выплеснулись сюда, будто началось половодье? А вам-то зачем знать? Я не помню. Помню только реку. И себя внутри той реки.
Однажды, у себя в деревне, сидя на пороге хижины из соломы и грязи, я целый день смотрела на собаку: как она бредет, насквозь проткнутая стрелой. Я не поняла даже, сознает ли она, что ранена. Она ступала одеревенело, спокойно — по пыли, даже не особенно тараща глаза; описывала один круг за другим, все медленнее... Дни проходят. Сколько ни обводи глазами двор, все равно не увидишь ничего, кроме высохшей саранчи, обезьян с обглоданной головой, разрубленных змей. Что мне сказали, чтобы заставить приехать сюда? Обманули ли? Как это произошло? Что было? Кто это был? По каким дорогам я ехала? Какие земли видела? Вам-то что за дело! Вы-то не знаете, что такое пыль! Не помню я ни названий мест, ни имен, хотя столько всего насмотрелась. Я переходила из рук в руки. Путешествовала. Совершила свое путешествие. О чем я думала? Во что верила? Какие иллюзии строила? Что они мне обещали? Как я представляла себе, чем буду заниматься? Что думаю об этом теперь? Я-то свое путешествие совершила, а вы — совершите свое! Кто знает, что проносится в голове у рыбы за секунду до того, как она попадет в пасть затаившегося в грязи сома? Кто это разберет? Может, рыба совершенно спокойна. Но рыбы, к счастью, лишены голоса, они немы, а иначе нам бы пришлось заткнуть уши, чтобы не слышать криков, доносящихся с морей и океанов. Я помню реки, помню только реки. Сперва Санага, потом — великий Нигер. Потом были другие путешествия. Кто-то мне дал, впервые в жизни, пару закрытых туфель. Сказал, что теперь я должна привыкнуть к ним и всегда их носить. «Туфли!» — в ужасе воскликнула я. И тогда, единственный раз за все время, плакала — пока втискивала мои большие ступни в эти тюремные казематы, эти пыточные машины, и потом училась ходить, хватаясь за стены и выпучив глаза. Потом — новое путешествие. На машинах. Ночевки в разных местах. Впервые увиденные города. По двадцать человек в одной комнате. Потом — море, ночное путешествие на моторной лодке. Вода была темная, но в лицо попадали только холодные брызги... Когда путешествуешь, всегда на что-то надеешься. Каким бы ни было путешествие, даже если не знаешь его конечной цели... Остальное описать невозможно. То, что имеется в виду под «панелью». Я из тех, что всегда шагают, распрямив спину, всегда, упав, поднимаются. И я подружилась с одной фульбе: Аминой.
Я шагала, хватаясь за стены, в своих бесформенных башмаках. Мы приехали в большой город, потом в другой. Нас выводили на эти улицы, ярко освещенные даже днем. Что же тут особенно объяснять... Сколько нас было! Мне казалось, я все еще в Африке!
Каким бывает наш конец, спросите вы. Почему кошек, голубей, мышей порой видишь на улице мертвыми, но нас — никогда? Нас что, снова посылают домой, когда мы заболеваем? Когда умираем? Да кто же, скажите, возьмет на себя расходы? Я вспоминаю одну ночь после того, как попыталась бежать... «Подойди!» — сказал мне вдруг укротитель. В руке он держал лопату. Он дернул вверх молнию куртки, глаза у него сверкнули. Внезапно он схватил меня за руку, как можно схватить, поддавшись порыву, собственную дочь — очень любя ее и не контролируя своих действий. Я тоже сразу ему подчинилась, хоть у меня комок стоял в горле, и так сошла вниз по лестнице, с еще окровавленным ртом... одной рукой он держал меня, другой — лопату. «Возьми!» — сказал он, когда мы вышли из подъезда, прежде чем вскочил на большой сверкающий мотоцикл. Я села сзади него, держа лопату. Мотоцикл тронулся, полетел. Я держала лопату наперевес, чтобы ее не вырвал встречный ветер. Не знаю, может, я делала это не без умысла: мы долго ехали вдоль одной из наших африканских панелей, и все девочки, которые стояли с голыми ляжками вдоль кромки тротуара, когда видели, как я стрелой лечу мимо них, прижавшись к укротителю, и как покачивается в моей руке наклоненный скипетр лопаты, смотрели на меня, надменно откинув головы, и во взглядах их сверкали зависть и гордость. Мы мчались так еще долго — я и укротитель, и это копье — по улицам, сплошь забитым черными шлюхами и машинами со слепящими фарами. Потом — по более темным, окраинным шоссе, и вдалеке уже угадывались эти окружные барьеры из перфорированных многоэтажек, заснувших; а после мы оказались в зоне, какой я прежде не видела: в пустынной зоне мусорных свалок. Мы оба сошли с мотоцикла, но фара продолжала гореть, освещая молодое черное тело, обнаженное ниже пояса: эта женщина лежала ничком, вжавшись ртом в землю. Укротитель, держа мобильник против света, набрал одной рукой чей-то номер. «Да, она здесь, я нашел ее!» — вот все, что он произнес, прежде чем убрал телефон в футляр, подвешенный к ремню. Потом взглянул на меня. «Копай!» — приказал. Я посмотрела на женщину, когда укротитель ногой перевернул ее животом вверх. «Но она же банту!» — воскликнула, увидев ее лицо. Укротитель забрал у меня лопату, ткнул острием между ног женщины, оттуда сразу потекла кровь. «Не видишь, что это падаль? — сказал, возвращая лопату мне. — Ты что думаешь? Что мы оплатим обратный проезд такой вот падали, мертвой? Или деньги вы будете собирать? А как с документами? И всем прочим? С вами-то самими что будет? Копай!» Я начала копать, земля была рыхлая. Когда яма достаточно углубилась, укротитель спихнул в нее тело. Я стала кидать сверху землю. Живота уже не было видно, но, сколько я ни кидала, из земли все торчала верхушка блестящей и черной задницы, перепачканной кровью. Наконец и она скрылась под землей, и голова — но в последний момент укротитель успел сорвать парик из окрашенных перекисью прямых волос. Парик он встряхнул, чтоб очистить. Когда яма была полностью засыпана, он потоптался на ней, утрамбовывая землю. Потом сказал: «Ложись, Принцесса!» И поимел меня своим татуированным членом, на земле, с убежденностью, что так надо, на едва засыпанной могиле, в молчании. «Мне хорошо с тобой!» — только и сказал, в конце, прежде чем вскочить в седло мотоцикла. Я пристроилась у него за спиной, и мы проделали тот же путь в обратном направлении: промчались мимо череды других африканок, но теперь острие лопаты, которую я держала наперевес, как копье, было окрашено кровью, и я порой ловила на себе сверкающие, триумфальные взгляды, пока летела вперед, прижавшись щекой к спине укротителя, с зажмуренными глазами... Укротитель? Хотите знать, кто он, этот укротитель?
Песня укротителя
Сколько же их прошло перед моими глазами! Шлюх, которые не смиряются и бегут, сами навлекая на себя неприятности: негритянок, славянок, да кого только среди них не было... Всегда одни и те же изможденные лица, те же вытаращенные глаза, те же тела, которые я за плечи прижму к земле, сокрушу. Для этого достаточно нескольких дней, мне их привозят на дом, в маленький арендованный дом, где я живу, куда никаких посторонних не пускаю: матрасы, разбросанные по полу, грязные; брызги крови и слизи на стенах, когда мне приходится бить их и они шмякаются о стену лицом, всем телом, или когда я должен совокупляться с ними, чтобы они меня лучше поняли, и прикрепляю к члену подобие птичьего клюва; запах горелой плоти, когда прижигаю их тела сигаретой. Или — экскрементов, когда вынужден оставлять их в их же дерьме, голых, связанных, на несколько дней, в особо трудоемких случаях. Их доставляют к моей двери и вталкивают внутрь, держа за перекрещенные за спиной запястья. Они, оставшись наедине со мной, испуганно оглядываются, обводят глазами стены, их большие рты с губами-присосками от удивления раскрываются. Глаза вылезают из орбит, сверкая белками. Я наношу удар немедленно, без единого слова: пусть сразу поймут, что попали туда, где царит ужас и где их никто не найдет. Я приучаю их молчать, с силой ударяя несколько раз по рту, и чувствую, как под костяшками моих пальцев, сжатых в кулак, лопаются эти преувеличенно полные губы. Пусть поймут, что каждое их слово, каждый стон вызовут у меня реакцию, для них даже не вообразимую; в конце этой процедуры они должны онеметь, окаменеть, утратить дар речи. Они открывают и закрывают свои большие рты, но наружу не вырывается ни звука, ни всхлипа; я вижу лишь, как они судорожно ловят ртом воздух — словно рыбы. Они, конечно, пробуют немного побегать по дому, в самом начале, чтобы спрятаться от меня. Я всякий раз спокойно настигаю их, даже не ускоряя шага. Они порой и защищаться пытаются, в самом начале: размахивают руками с накрашенными ногтями и светлыми ладонями, а самые бешеные даже кусаются. Я таких стукаю два-три раза о стену, лицом, и на оштукатуренных стенах остаются потом отпечатки их припухших губ — переводные картинки. Стены моего дома усеяны этими отпечатками, и о каждом я мог бы сказать, кому он принадлежит. А еще выбитые зубы... я их даже не выметаю на следующее утро, они так и валяются в углах, под койками, вместе с клоками срамных волос, вырванными прядями шевелюры, завалявшимся кусочком черного уха, высохшим и пожелтевшим... Совокупляюсь я со своими подопечными a tergo: заломив им руки за спину, одной лапищей обхватываю запястья, а член проталкиваю в задницу, с силой, — чтоб и их головы с силой ударялись о стену, оставляя на ней влажно-кровавые пятна. Я им уродую лица, ножом, или груди — отсекая пуговку соска. Я бью их в промежность, ногами в крепких ботинках, заставив прежде лечь на пол и раздвинуть ляжки; каждое их слово провоцирует новый, еще более сильный удар, носком ботинка, — пока они не впадут в кататонический ступор, то есть не застынут, онемев и вытаращив глаза. Я угрожаю им молоточком для отбивных, держа его над их лицами. Или делаю вид, что сейчас размахнусь и ударю этой колотушкой по лобковой кости, разбив ее вдребезги, — и так несколько раз, пока они не станут внутри сплошь влажными, да и мой кусок плоти к тому времени уже будет готов: изукрашенный, вздыбленный, словно древко флага. Мой кусок плоти... Надо бы сказать пару слов и о нем, здесь для этого самое место. Я договорился с одним иногородним мастером, чтоб покрыл его татуировкой, в несколько приемов; на эту процедуру ушли долгие месяцы, дело двигалось медленно: я лежал на койке, а мастер работал с помощью увеличительной линзы и зеркала. Я попросил вытатуировать карту всей планеты: континенты, государства, океаны с паутинками архипелагов, которые можно рассмотреть только когда член в самом деле раздувается до гигантских размеров, кожа на нем натягивается и тогда обнаруживаются детали, ранее ускользавшие даже от моего взгляда: какой-нибудь маленький остров, а рядом — микроскопический стилизованный рисунок старинного корабля, парусника, намекающий на морские экспедиции, открытие новых земель. И потом — другие крошечные рисунки, разбросанные повсюду: Наполеон со своим генеральным штабом на каком-то холме, Венский конгресс, краснокожие, этот барельеф с лучниками, из дворца древневосточного царя — его звали Ашшурбанипалом, как сказал мне мастер-татуировщик, — и когда член набухает еще больше, видны даже длинные завитые волосы этих воинов, мышцы у них на предплечьях, их стрелы... И потом — еще другие мельчайшие изображения, напоминающие о войнах, о революциях: все, что только ни происходило когда-либо здесь, на Земле, поместилось на моем куске плоти. Некоторые подопечные, пока сосут мой член, не сводят с него глаз: таращатся на новые фигуры, которые обнаруживаются по мере того, как он все больше разбухает, становится гигантским. «Я никогда не делал столь сложной работы!» — сказал мне в конце тот мастер, устало отбросив в сторону иглы, линзу. Но я тем временем разглядел еще один образец татуировки, рисунок на стене: созвездия Северного полушария, с символами всех звезд, Полярная звезда, Большая Медведица, Альтаир, Змея, Кассиопея, Северная Корона, туманности... «Вы и это могли бы мне вытатуировать?» — спросил я. «Теперь как же? Надо было раньше думать!» — ответил мастер. «Вот незадача! — воскликнул я. — Почему у меня не два члена?!»
Хотите знать, когда я начал заниматься этой работой? Через какие этапы прошел? Я уже точно не помню... Ко мне стекаются со всех концов света эти потоки шлюх, их вербуют в городах, в деревнях, перевозят на моторках, на поездах, определяют в маленькие однозвездочные отели, начинают подготавливать. Некоторые сразу понимают, чтó их ждет. Другие — нет. Такие строят себе иллюзии. И совершенно теряют голову, сообразив наконец, куда попали. Или они встречают женщину из своей деревни, уже когда их выводят на панель. И обе соседки начинают дурить друг другу мозги... Плоть всегда страдает, тут уж ничего не поделаешь. Я умею их одомашнивать. Должен же кто-то заниматься и такой работой. После они чувствуют себя лучше, становятся спокойнее. Я иногда прихожу взглянуть на только что прибывших, когда они сходят с поезда или переодеваются на складах, — приближаюсь к самому истоку, так сказать. И с первого взгляда определяю, из-за кого потом возникнут проблемы. «Обратите внимание вот на эту!» — предупреждаю я. Иногда я выуживаю своих будущих подопечных на дискотеках: они меня не знают; я приглашаю их танцевать, даю возможность выговориться, доверительно уронив голову мне на плечо. У них загораются глаза, они мгновенно влюбляются, как только поверят, что нашли своего спасителя. Я делаю вид, будто растроган рассказанной историей, а они танцуют, прильнув ко мне близко-близко, и я ощущаю их губы на своей шее, все их тело, которое пульсирует и дышит вплотную к моему. И ведь каждая верит, будто в ней есть что-то особенное, спасающее... Я ее слушаю; целую, продолжая танцевать; смутно различаю под моросящим дождем цветных огней пятна других женских лиц, которые смотрят на нас со всех сторон, тоже с горящими глазами... Я вывожу ее из зала, обняв за талию. Она уронила голову мне на плечо и бредет еле-еле — в туфлях, которые ей жмут, на высоченных каблуках или на платформах. Я всегда чувствую, как у них колотится сердце. Они смотрят на меня расслабленно, влюбленно. И многие уже напичканы наркотой, уже вывозились в грязи. Сорвались со всех катушек... Огни. Далекие многоэтажки. Ветерок, когда очередная машина проносится мимо... Эти волоокие дуры в буквальном смысле целуют мне руку, прежде чем сесть на заднее сиденье мотоцикла, вцепляются в меня неотразимыми черными пальцами с маникюром или, если речь идет о славянских девочках, пальчиками с обгрызенными ногтями... «Успокойся! — говорю я каждый раз. — Все плохое уже позади. Я помогу тебе, спрячу тебя». Они бросаются передо мной на колени, обхватывают за бедра своими лапками с маникюром — где бы мы ни находились, прямо посреди улицы, среди луж. И рыдают, не контролируя себя. Чувствую, как они целуют мою спину, обняв меня сзади, когда мотоцикл уже мчится, — этими их мягкими губами, похожими на присоски. «Ну вот, приехали! — говорю я в конце такого мотопробега. — Я буду прятать тебя здесь, пока те типы не собьются со следа. Потом посмотрим, что делать, сама решишь — останешься ли в этой стране, или вернешься домой. Посмотрим, как быть с деньгами, которые ты задолжала этим подонкам». И вижу, как у них загораются глаза, чувствую, как бурно они дышат, пока бредут со мной до двери подъезда — все еще обнимая меня, будто боятся, что я вот-вот исчезну. «А я не верила, что ты существуешь... — слышу я, как они лепечут, неотчетливо из-за избытка эмоций. — Не верила, что удастся встретить такого как ты!» Им не удается даже по-человечески говорить... Я тихо открываю дверь. Ласково подталкиваю их, сзади. Потом и сам вхожу; вижу, как мертвеют их лица, когда они замечают следы всей этой грязи на полу, на стенах — или слышат стоны других связанных подопечных, потому что, бывает, я занимаюсь сразу двумя или тремя, когда работы много, и тогда, чтобы укрощать их, приходится постоянно перемещаться из одной комнаты в другую... Новоприбывшие иногда сразу падают на пол, без сил. Я подхожу и мочусь на них... Или они на меня кидаются, царапаясь крашеными ногтями, — сообразив наконец, куда попали. Таким я сразу ломаю пару ребер, нанося удары ботинком или коленом, — для начала, так сказать. Остальное успеется. Я всегда понимал, что и в каких случаях предпринять. Еще с тех пор, как был мальчишкой и наблюдал за страданиями животных... А здесь — вся эта человечья плоть, которую нужно одомашнить, усмирить; шлюшки, переходящие от одного хозяина к другому, от одной организации к другой; мое же дело — их всех обтесывать, или ликвидировать, или обучать ремеслу. Они стекаются сюда неиссякаемыми потоками, иногда даже непонятно, на каком языке они говорят. Но я-то их заставляю вообще утратить дар речи, для начала; я их сокрушаю и после вставляю им в задницу свой татуированный член, а потом они собственными ртами, языками очищают мой кусок плоти от содержимого их же кишок; и тем временем он, кусок плоти, раздувается — так что обнаруживаются детали, которых даже сам я еще никогда не видел: парус одной из этих трех каравелл или образцы фауны других стран, других континентов... Шлюшки смотрят, тараща глаза, потому что на тугом, как барабан, грязном члене вдруг замечают какого-то зверя, живущего на их родине... Мне приходится иметь дело и с грязнулями — теми, кто не умеет справиться с месячными, грибковыми заболеваниями, корочками... Я должен учить их мыться, дезинфицировать себя; я терпеливо зашиваю рваные раны, которые сам же был вынужден нанести, — и тем временем затыкаю их рты-присоски собственным кулаком, в кровь разбивая губы, потому что не выношу, когда они кричат... Порой я позволяю им сбежать — и потом перехватываю: я смотрю из окна своей стоящей на отшибе многоэтажки, как они бегут — полуголые и перепачканные дерьмом — среди грязных луж, в этой зоне редко разбросанных домов и мусорных свалок. Здесь никто не судачит о моей работе. Я жду, пока мои телки отбегут достаточно далеко, а после спокойно догоняю их, на мотоцикле; не останавливаясь, хватаю за волосы в тот самый миг, когда они собираются выскочить на шоссе, и заставляю некоторое время так и бежать — лицо приплюснуто к баку мотоцикла, задница голая и грязная, ноги и стопы сгибаются, пытаясь продолжить бег. Потом я рывком поднимаю их и перекидываю через седло, как всадник перекидывает пленницу через спину коня, — и одновременно ломаю им пару ребер неожиданным, но выверенным ударом локтя сверху; или, пока они еще бегут, как бешеные, замахиваюсь и ударяю их по плечам велосипедной цепью... А иногда я даю им возможность сесть в автобус, если им удается добраться до остановки. Организую все так, чтобы их встретили на конечной: звоню по мобильнику — куда, это уж мое дело. Через час-другой их снова приводят ко мне, смертельно испуганных. Я закрываю глаза, вздыхаю, прежде чем наклониться над такой беглянкой и сокрушить ее — на глазах у какой-нибудь новенькой, не смеющей раскрыть рта. Но когда строптивица наконец выйдет отсюда, если выйдет, проблема с ней будет решена раз и навсегда. И клиенты это знают, потому и предпочитают посылать шлюшек ко мне, а не к другим укротителям, которые в последнее время — когда спрос на такую работу возрос — повылазили отовсюду, как грибы после дождя. Я звоню клиенту по мобильнику, в самом конце, — после того как, заглянув в глаза очередной подопечной, убеждаюсь: все уже кончено, больше она не будет страдать и никому другому страданий не причинит. Выйдя из этой двери, она окажется на своем месте, она уже одомашнена.
И все же, не знаю почему, среди всех этих одинаковых испуганных взглядов, с которыми приходится иметь дело, я порой, как мне кажется, перехватываю другой взгляд, устремленный на меня из более отдаленной точки: спокойный, отпечатывающийся в сознании. Подобный взгляду Принцессы. Она тоже здесь побывала. Заслуженно или в силу ошибки — не знаю, я так этого и не понял. Она не из тех, что совершают побеги. Ее застали там, где ей не положено быть. Решили, что она в бегах. Но она никуда не бежала. Она не из тех, что совершают побеги, как я уже говорил; просто она время от времени испытывает потребность шагать. Она и когда была здесь так себя вела. «Я, пожалуй, пройдусь», — говорила она мне время от времени, спокойно. Я позволял ей уйти. И догонял ее через некоторое время, бесшумно скользя на мотоцикле, — а вдалеке сияли огнями многоэтажки. «Садись, принцесса!» — говорил я ей. Она без всяких фокусов взбиралась на мотоцикл, и я ее не бил. Просто она из тех, кому всякий раз нужно возобновлять шагание. Что касается прочего, то я никогда не слышал, чтобы она говорила: она научилась молчать еще прежде, чем я, в самом начале, хорошенько ее отдубасил, до крови. С ней мне нравилось трахаться, как ни с одной другой бабой. Мой кусок плоти устраивал настоящий праздник. Позволял рассмотреть даже тончайшие изображения спаренных волн в морях и океанах, и какие-то большие прибрежные города, стилизованные, ирреальные, сплошь перфорированные... Я поначалу — без всякой пользы, в силу дурацкой привычки — держал Принцессу связанной и с раздвинутыми ногами, пока прижигал ей промежность или совокуплялся с ней. Она не произносила ни слова, будто вообще еще не научилась говорить. Но так странно смотрела на меня... Не знаю, как объяснить... У меня, впрочем, осталась эта работа, которой кто-то должен заниматься. Вся эта бедная человечья плоть, прибывающая со всех сторон, которая страдает, нуждается в одомашнивании... И я ее одомашниваю.
Хотите знать, когда я начал заниматься этой работой? Через какие этапы прошел? Я уже точно не помню... Ко мне стекаются со всех концов света эти потоки шлюх, их вербуют в городах, в деревнях, перевозят на моторках, на поездах, определяют в маленькие однозвездочные отели, начинают подготавливать. Некоторые сразу понимают, чтó их ждет. Другие — нет. Такие строят себе иллюзии. И совершенно теряют голову, сообразив наконец, куда попали. Или они встречают женщину из своей деревни, уже когда их выводят на панель. И обе соседки начинают дурить друг другу мозги... Плоть всегда страдает, тут уж ничего не поделаешь. Я умею их одомашнивать. Должен же кто-то заниматься и такой работой. После они чувствуют себя лучше, становятся спокойнее. Я иногда прихожу взглянуть на только что прибывших, когда они сходят с поезда или переодеваются на складах, — приближаюсь к самому истоку, так сказать. И с первого взгляда определяю, из-за кого потом возникнут проблемы. «Обратите внимание вот на эту!» — предупреждаю я. Иногда я выуживаю своих будущих подопечных на дискотеках: они меня не знают; я приглашаю их танцевать, даю возможность выговориться, доверительно уронив голову мне на плечо. У них загораются глаза, они мгновенно влюбляются, как только поверят, что нашли своего спасителя. Я делаю вид, будто растроган рассказанной историей, а они танцуют, прильнув ко мне близко-близко, и я ощущаю их губы на своей шее, все их тело, которое пульсирует и дышит вплотную к моему. И ведь каждая верит, будто в ней есть что-то особенное, спасающее... Я ее слушаю; целую, продолжая танцевать; смутно различаю под моросящим дождем цветных огней пятна других женских лиц, которые смотрят на нас со всех сторон, тоже с горящими глазами... Я вывожу ее из зала, обняв за талию. Она уронила голову мне на плечо и бредет еле-еле — в туфлях, которые ей жмут, на высоченных каблуках или на платформах. Я всегда чувствую, как у них колотится сердце. Они смотрят на меня расслабленно, влюбленно. И многие уже напичканы наркотой, уже вывозились в грязи. Сорвались со всех катушек... Огни. Далекие многоэтажки. Ветерок, когда очередная машина проносится мимо... Эти волоокие дуры в буквальном смысле целуют мне руку, прежде чем сесть на заднее сиденье мотоцикла, вцепляются в меня неотразимыми черными пальцами с маникюром или, если речь идет о славянских девочках, пальчиками с обгрызенными ногтями... «Успокойся! — говорю я каждый раз. — Все плохое уже позади. Я помогу тебе, спрячу тебя». Они бросаются передо мной на колени, обхватывают за бедра своими лапками с маникюром — где бы мы ни находились, прямо посреди улицы, среди луж. И рыдают, не контролируя себя. Чувствую, как они целуют мою спину, обняв меня сзади, когда мотоцикл уже мчится, — этими их мягкими губами, похожими на присоски. «Ну вот, приехали! — говорю я в конце такого мотопробега. — Я буду прятать тебя здесь, пока те типы не собьются со следа. Потом посмотрим, что делать, сама решишь — останешься ли в этой стране, или вернешься домой. Посмотрим, как быть с деньгами, которые ты задолжала этим подонкам». И вижу, как у них загораются глаза, чувствую, как бурно они дышат, пока бредут со мной до двери подъезда — все еще обнимая меня, будто боятся, что я вот-вот исчезну. «А я не верила, что ты существуешь... — слышу я, как они лепечут, неотчетливо из-за избытка эмоций. — Не верила, что удастся встретить такого как ты!» Им не удается даже по-человечески говорить... Я тихо открываю дверь. Ласково подталкиваю их, сзади. Потом и сам вхожу; вижу, как мертвеют их лица, когда они замечают следы всей этой грязи на полу, на стенах — или слышат стоны других связанных подопечных, потому что, бывает, я занимаюсь сразу двумя или тремя, когда работы много, и тогда, чтобы укрощать их, приходится постоянно перемещаться из одной комнаты в другую... Новоприбывшие иногда сразу падают на пол, без сил. Я подхожу и мочусь на них... Или они на меня кидаются, царапаясь крашеными ногтями, — сообразив наконец, куда попали. Таким я сразу ломаю пару ребер, нанося удары ботинком или коленом, — для начала, так сказать. Остальное успеется. Я всегда понимал, что и в каких случаях предпринять. Еще с тех пор, как был мальчишкой и наблюдал за страданиями животных... А здесь — вся эта человечья плоть, которую нужно одомашнить, усмирить; шлюшки, переходящие от одного хозяина к другому, от одной организации к другой; мое же дело — их всех обтесывать, или ликвидировать, или обучать ремеслу. Они стекаются сюда неиссякаемыми потоками, иногда даже непонятно, на каком языке они говорят. Но я-то их заставляю вообще утратить дар речи, для начала; я их сокрушаю и после вставляю им в задницу свой татуированный член, а потом они собственными ртами, языками очищают мой кусок плоти от содержимого их же кишок; и тем временем он, кусок плоти, раздувается — так что обнаруживаются детали, которых даже сам я еще никогда не видел: парус одной из этих трех каравелл или образцы фауны других стран, других континентов... Шлюшки смотрят, тараща глаза, потому что на тугом, как барабан, грязном члене вдруг замечают какого-то зверя, живущего на их родине... Мне приходится иметь дело и с грязнулями — теми, кто не умеет справиться с месячными, грибковыми заболеваниями, корочками... Я должен учить их мыться, дезинфицировать себя; я терпеливо зашиваю рваные раны, которые сам же был вынужден нанести, — и тем временем затыкаю их рты-присоски собственным кулаком, в кровь разбивая губы, потому что не выношу, когда они кричат... Порой я позволяю им сбежать — и потом перехватываю: я смотрю из окна своей стоящей на отшибе многоэтажки, как они бегут — полуголые и перепачканные дерьмом — среди грязных луж, в этой зоне редко разбросанных домов и мусорных свалок. Здесь никто не судачит о моей работе. Я жду, пока мои телки отбегут достаточно далеко, а после спокойно догоняю их, на мотоцикле; не останавливаясь, хватаю за волосы в тот самый миг, когда они собираются выскочить на шоссе, и заставляю некоторое время так и бежать — лицо приплюснуто к баку мотоцикла, задница голая и грязная, ноги и стопы сгибаются, пытаясь продолжить бег. Потом я рывком поднимаю их и перекидываю через седло, как всадник перекидывает пленницу через спину коня, — и одновременно ломаю им пару ребер неожиданным, но выверенным ударом локтя сверху; или, пока они еще бегут, как бешеные, замахиваюсь и ударяю их по плечам велосипедной цепью... А иногда я даю им возможность сесть в автобус, если им удается добраться до остановки. Организую все так, чтобы их встретили на конечной: звоню по мобильнику — куда, это уж мое дело. Через час-другой их снова приводят ко мне, смертельно испуганных. Я закрываю глаза, вздыхаю, прежде чем наклониться над такой беглянкой и сокрушить ее — на глазах у какой-нибудь новенькой, не смеющей раскрыть рта. Но когда строптивица наконец выйдет отсюда, если выйдет, проблема с ней будет решена раз и навсегда. И клиенты это знают, потому и предпочитают посылать шлюшек ко мне, а не к другим укротителям, которые в последнее время — когда спрос на такую работу возрос — повылазили отовсюду, как грибы после дождя. Я звоню клиенту по мобильнику, в самом конце, — после того как, заглянув в глаза очередной подопечной, убеждаюсь: все уже кончено, больше она не будет страдать и никому другому страданий не причинит. Выйдя из этой двери, она окажется на своем месте, она уже одомашнена.
И все же, не знаю почему, среди всех этих одинаковых испуганных взглядов, с которыми приходится иметь дело, я порой, как мне кажется, перехватываю другой взгляд, устремленный на меня из более отдаленной точки: спокойный, отпечатывающийся в сознании. Подобный взгляду Принцессы. Она тоже здесь побывала. Заслуженно или в силу ошибки — не знаю, я так этого и не понял. Она не из тех, что совершают побеги. Ее застали там, где ей не положено быть. Решили, что она в бегах. Но она никуда не бежала. Она не из тех, что совершают побеги, как я уже говорил; просто она время от времени испытывает потребность шагать. Она и когда была здесь так себя вела. «Я, пожалуй, пройдусь», — говорила она мне время от времени, спокойно. Я позволял ей уйти. И догонял ее через некоторое время, бесшумно скользя на мотоцикле, — а вдалеке сияли огнями многоэтажки. «Садись, принцесса!» — говорил я ей. Она без всяких фокусов взбиралась на мотоцикл, и я ее не бил. Просто она из тех, кому всякий раз нужно возобновлять шагание. Что касается прочего, то я никогда не слышал, чтобы она говорила: она научилась молчать еще прежде, чем я, в самом начале, хорошенько ее отдубасил, до крови. С ней мне нравилось трахаться, как ни с одной другой бабой. Мой кусок плоти устраивал настоящий праздник. Позволял рассмотреть даже тончайшие изображения спаренных волн в морях и океанах, и какие-то большие прибрежные города, стилизованные, ирреальные, сплошь перфорированные... Я поначалу — без всякой пользы, в силу дурацкой привычки — держал Принцессу связанной и с раздвинутыми ногами, пока прижигал ей промежность или совокуплялся с ней. Она не произносила ни слова, будто вообще еще не научилась говорить. Но так странно смотрела на меня... Не знаю, как объяснить... У меня, впрочем, осталась эта работа, которой кто-то должен заниматься. Вся эта бедная человечья плоть, прибывающая со всех сторон, которая страдает, нуждается в одомашнивании... И я ее одомашниваю.
Новая песня Принцессы
Да, это правда, я тоже побывала в доме укротителя, в самом начале. Я время от времени попадала туда, где мне не положено быть. Неумышленно. Просто ноги мои хотели возобновить шагание. И начинали шагать. В своих нарядных сапогах из дешевого кожзаменителя, с выставленной напоказ черной задницей, я шагала вдоль улиц, заполненных африканскими путанами, и по виадукам, и мимо дорожных развязок... Бюстье между ногами расшнуровано и задрано до поясницы, груди скорее снаружи, чем внутри... Вокруг — далекие многоэтажки, иногда освещенные, цветные неоновые вывески, прикрепленные к заброшенным темным складам, и глубокая ночь. Сколько же городов я видела! Сколько огней! Иногда, когда я шагала по железнодорожному мосту, из окошка машины, которая обгоняла меня, протяжно сигналя, высовывалась голова с высунутым языком, на изогнувшейся крючком шее, — чтобы хоть на мгновенье увидеть, как шагает вперед моя замерзшая обнаженная смоква, прикрытая жестким, как проволока, ворсом... Меня схватили за волосы и кинули во внедорожник, протянув руку с водительского сидения и подцепив сразу и мой парик, и ухо. Потом привезли к этому укротителю. Он меня бил, поначалу; и тем временем учил уму-разуму. Я же только зевала. Я видела, как он все быстрее размахивает руками, словно уменьшаясь в размерах. Я почти не ощущала прикосновений его горящей сигареты. Мы смотрели в глаза друг другу. Он связывал меня и начинал двигать руками, жестикулировать. Вытаскивал свой кусок плоти. И был виден маленький вытатуированный слон, на моем континенте, — когда член твердел, остановившись напротив беспомощно разверстой вагины. Я принимала в себя и этого слона, вместе со всем прочим — океанами, горными цепями, стадами животных, бегущими в саванне или по льду; когда кожа на члене еще больше натягивалась, я сжимала одной рукой яйца — пока укротитель входил в меня — и пальцами с накрашенными ногтями чувствовала, как они пульсируют, когда он извергает семя... Однажды он вышвырнул меня из окна. Я смотрела на огни далеких многоэтажек, облокотившись, как ни в чем не бывало, о подоконник, и тем временем чувствовала, как по ноге у меня течет кровь — из ножевой раны, которую он ни с того ни с сего мне нанес, во внутреннюю поверхность бедра. «Хочешь видеть эти огни? — спросил укротитель, приблизившись ко мне сзади, вплотную; и стал гладить мои голые округлые ягодицы, а другой рукой сжал одну грудь; и поцеловал меня в шею. — Хочешь видеть все эти дальние дома, и эти улицы, и эти автострады, и машины, которые бесшумно мчатся со всех сторон, с зажженными фарами, и даже лучики самолетов, которые пролетают над нашими головами, направляясь неизвестно куда, среди ночи, и людей, перемещающихся по небу нашего мира, которых, кажется, кто-то ждет в тех краях, где в этот миг и час совсем другой, и время года другое, и двери уже запираются, и руки любящих вновь узнают друг друга, Земля же между тем продолжает крутиться в пространстве, вместе со всеми теми телами, что перемещаются наверху, запрокинув глазастые головы с широко открытыми ртами... Что ж, смотри, так тебе будет виднее!» И он вышвырнул меня из окна, прежде ухватив одним мгновенным движением за обе ноги... Я чувствовала, что лечу вниз, в пропасть, — пока не поняла, что он крепко держит меня, обхватив за бедра, и что я вишу вниз головой, голая, за окном. Он ничего не говорил. Я ничего не говорила. Я, из-за своего высокого роста, привыкла смотреть на все сверху, наклонив голову! Я и смотрела — на человека, который припарковывает машину у кромки тротуара, там на дне; потом — на переплетение улиц, на отблески металла, появлявшиеся со всех сторон. «Где я могла видеть все это раньше?» — спокойно спрашивала я себя. А ведь мне еще никогда не приходилось висеть вниз головой за окном, на одном из верхних этажей многоэтажного дома, откуда в любой момент можно сорваться и полететь вниз... Потом я почувствовала — довольно скоро, — как он крепче сжал мои бедра своими сильными ручищами и слегка подтянул меня кверху, так что задница оказалась почти на уровне подоконника. Укротитель, наверное, высунул голову из окна, потому что я вдруг поняла, что он слизывает кровь, вытекающую из раны на бедре, облизывает мой анус, вагину — закрыв глаза, шершавым жарким языком, как если бы был котенком или барашком. Через какое-то время он затащил в комнату меня всю. И совокупился со мной — на полу, по-хорошему, с убеждением, что так надо. И я тоже с ним совокупилась... по-хорошему. Когда все закончилось, мы оба лежали навзничь, один подле другого. Увидев, как он протягивает ко мне руку, я подумала: сейчас обнимет. Но он обрушил на мой расцветший рот молоток для отбивания мяса...
Я много раз уходила из его дома. Однажды мне удалось сесть в троллейбус, на ближайшей остановке. Я устроилась на одном из передних сидений, и никто не заметил, что у меня голая задница. Укротитель даже не вышел из дому. Я мельком увидела — прежде чем троллейбус тронулся — далекий абрис его головы, спокойно смотрящей на меня из окна, с очень далекого расстояния, с сигаретой в зубах. Я отвернулась, потому что троллейбус уже набирал скорость. Никто не заметил — или все делали вид, что не замечают — моей сверкающей голой задницы, прижатой к пластиковому сидению. Я смотрела на улицу, уводящую меня все дальше от того дома, как вдруг, через несколько минут, увидела голову укротителя, который ехал на мотоцикле бок о бок с троллейбусом, по ту сторону стекла. Он спокойно смотрел на дорогу, слегка запрокинув голову, и ветер играл его волосами. «Как мог он так быстро догнать меня, — спрашивала я себя, — если совсем недавно спокойно курил у окна? Он, наверное, фурией выбежал на улицу, уже в следующую секунду, вскочил на мотоцикл и, когда трогался с места, поставил его на дыбы, почти вертикально, как всегда получается при внезапном рывке, а меня нашел, следуя по маршруту троллейбуса — глядя на натянутые вверху провода...» Укротитель даже не повернул головы, чтобы взглянуть на меня; смотрел он только на дорогу, спокойно. Я вышла на первой же остановке. Села позади него, голой задницей на второе сиденье. Но он не повез меня сразу домой. Помчался, не проронив ни звука, по какой-то широкой улице, и я не понимала, ни что у него на уме, ни куда он едет.
[...]
Я много раз уходила из его дома. Однажды мне удалось сесть в троллейбус, на ближайшей остановке. Я устроилась на одном из передних сидений, и никто не заметил, что у меня голая задница. Укротитель даже не вышел из дому. Я мельком увидела — прежде чем троллейбус тронулся — далекий абрис его головы, спокойно смотрящей на меня из окна, с очень далекого расстояния, с сигаретой в зубах. Я отвернулась, потому что троллейбус уже набирал скорость. Никто не заметил — или все делали вид, что не замечают — моей сверкающей голой задницы, прижатой к пластиковому сидению. Я смотрела на улицу, уводящую меня все дальше от того дома, как вдруг, через несколько минут, увидела голову укротителя, который ехал на мотоцикле бок о бок с троллейбусом, по ту сторону стекла. Он спокойно смотрел на дорогу, слегка запрокинув голову, и ветер играл его волосами. «Как мог он так быстро догнать меня, — спрашивала я себя, — если совсем недавно спокойно курил у окна? Он, наверное, фурией выбежал на улицу, уже в следующую секунду, вскочил на мотоцикл и, когда трогался с места, поставил его на дыбы, почти вертикально, как всегда получается при внезапном рывке, а меня нашел, следуя по маршруту троллейбуса — глядя на натянутые вверху провода...» Укротитель даже не повернул головы, чтобы взглянуть на меня; смотрел он только на дорогу, спокойно. Я вышла на первой же остановке. Села позади него, голой задницей на второе сиденье. Но он не повез меня сразу домой. Помчался, не проронив ни звука, по какой-то широкой улице, и я не понимала, ни что у него на уме, ни куда он едет.
[...]
Песня Сумасброда
Я почти никогда не говорил, здесь-внутри, и никогда не пел. Почти всегда молчал, таился, отсутствовал. Для меня тоже пространство и время обездвижены. Меня тоже оторвали от моей тени. Мне не остается иного выбора, кроме как представиться самому в начале этой песни — в качестве того, кто я есть. Мое имя Антонио Мореско — в данный момент, здесь-внутри. Я пишу, уже много лет, эту книгу, авторство которой каждый, кому не лень, пытается присвоить. Сейчас мне пятьдесят восемь. Я не думал, что доживу до такого возраста. Я не был на это запрограммирован, ничто этого не предвещало. Хотел я только одного — поскорее подохнуть. И находил для себя нескончаемые опасности, грезы — чтобы продолжать жить. Хотя хотел только поскорее подохнуть. Какой-то части меня приходилось жить — жить в эту страшную, обездвиженную и воплотившуюся эпоху. Другая часть хотела поскорее подохнуть. Так и получилось, что я пребывал внутри жизни, а еще — внутри этой странной штуковины, которую назвали литературой: чтобы заставить ее жить и чтобы заставить подохнуть. Чтобы заставить ее подохнуть и чтобы заставить жить. Это противоречие я носил в себе, привнес его и в литературу, воплотил в ней.
У меня голова старика. Волосы редеют, седая борода становится все колючее, один глаз наполовину закрылся, другой — открытый и даже вытаращенный. Но тело пока худощавое и гладкое, как когда я был мальчиком. Я страдаю мигренью, периодическими потерями зрения, головокружениями, бессонницей, ишемической болезнью сердца, церебральной ишемией, обмороками, случаются и боли — в суставах, предродовые и менструальные. Мне трудно дышать, потому что повреждена носовая перегородка. Какая-то часть мозга плохо функционирует. Я даже не рискую левой рукой подрезать себе ногти на правой. На ягодицах образовались язвы — из-за того, что я слишком долго писал эту книгу. Я накладываю на язвы мазь, брызгаю на них спреем на основе металлического серебра. Куда же денешься. Но есть и хорошие новости: ни фига себе, все тридцать два зуба пока на месте!
Таков человек, который в течение многих лет — на стыке двух веков и двух тысячелетий — день за днем садился за стол и писал книгу, которую вы сейчас держите в руках. Я, правда, пропустил сколько-то времени после того, как закончил вторую часть, — как и после завершения первой части: чтобы обрести иное отношение к обездвиженному времени; и потому что не испытывал никакого почтения к себе, а хотел себя мучить, постоянно рвать нарративную ткань и автоматические приемы обращения с ней — ведь в противном случае ткань эта наращивается в горизонтальной плоскости, сама собой, и тебе кажется, ты делаешь одно, а получается совсем другое; и еще — чтобы всегда быть внутри разрыва, раны, перехода, чтобы чувствовать всем моим беззащитным телом драму рождения в нем другого тела. Удастся ли мне закончить книгу? — спрашиваю я себя. Потому что ощущаю тревогу, страх — в эти дни, как и всякий раз, когда принимаюсь за что-то новое; но только на сей раз все обстоит хуже, потому что мне уже не тридцать шесть, как когда я начинал «Начала», и даже не сорок шесть, как когда приступил к написанию первой части теперешней книги. Сейчас, как я уже говорил, мне пятьдесят восемь (ни фига себе, уже!), и здоровье мое стало еще более хрупким, чем тогда, в то время как здесь требуются — и всегда требовались, но теперь, если такое возможно, требуются еще больше — вся моя беззащитность и целостность, весь свойственный мне пыл: чтобы благополучно довести книгу до конца ее орбитального пути. И ведь я должен оставаться одновременно спокойным, беспристрастным, враждебным — внутри этой новой конфигурации пространства и времени. А потом, после, после... если наступит это после, если еще хватит времени, я очертя голову брошусь в нечто такое, что придумываю уже сейчас, — и тогда все будет доведено до своего финального предварения и завершения, каждый элемент совпадет с самим собой, сгорит внутри единого не-воплощенного пламени, и все в конце концов станет единым движением, единым мгновением, единым целым.
Несколько дней назад я вернулся из Германии. Видел тамошние города, разбомбленные и реконструированные, ирреальные. Я ездил туда на презентацию «Начал», переведенных на немецкий язык. Книги, где уже начинаются замедление, и обездвиживание, и противостояние. Где образуется этот пузырь, который потом лопнет. Книги, в пространство которой вторгается — и вихрится там — все то, что происходит сейчас и всегда, здесь-внутри. Книги, где впервые появляется Сукин Кот — мой Сукин Кот, наш. Пока в новой церковке кто-то играет на фисгармонии — ближе к вечеру, как мне помнится, когда солнце стоит низко, день заканчивается, — видно, как все больше сгущается тьма за окошками учебной аулы семинарии. Будто вся жизнь сжалась в этом одном месте. Сырость, тьма, сплющенные под тем же давильным прессом, что и вся атомарная масса универсума, — в точке, где достигают максимума обездвиживание, концентрация, боль. И я тогда стал бесконтрольно записывать неизвестно что — то, что продолжал писать и во все последующие годы, что пишу и сейчас. И потом он молниеносно ворвался в аулу, из церковки, застал меня врасплох — склоненным над этим изнасилованным листочком бумаги. Он ничего не сказал, не говорил многие и многие дни. А в конце разразился каскадом неконтролируемых взрывов смеха: смеялся в трапезной, в церкви, в нашем дортуаре, пока мы спали, — день за днем, со слезами на глазах. Ужасный и мучительный для меня смех, который еще не закончился, отголоски которого мы уже слышали и услышим еще не раз, здесь-внутри.
Я проехал на поездах через ряд возрожденных немецких городов, спланированных так, чтобы там было удобно жить; из конгломератов новых домов выбивались исторические окаменелости — шпили соборов, башни. Глядя на них, я отдалялся от реальности, думал, фантазировал. Теперь я снова здесь. На этом континенте и на этой планете, которые обездвижены, превзойдены — состоянием моего абсолютного одиночества и абсолютной власти. И вот я беру слово, прибегая к стихии итальянского языка — малой стихии, тоже уже обездвиженной, превзойденной и проданной. Но все-таки это стихия великого языка — древняя, сладостная, элегантная, простонародно-вульгарная, лиричная, текучая и сильная, какой умела быть только русская речь, когда с ней совокуплялись великие русские авторы. Она предстает такой — если ты входишь в нее без надежды, как в заброшенный дом, но потом совокупляешься с ней, как с последним на свете женским телом, познаешь ее до самых потаенных глубин и наполняешь собственным семенем, темным, отчаянным, жгучим. Из своей маленькой страны, превзойденной и проданной, управляемой экономическими кастами и неконтролируемыми криминально-олигархическими группами, обреченной на эту рабскую роль и в воронке обездвиженной истории утратившей всякую надежду... Я переношусь в ту убогую сферу, к которой свели литературу: ибо на самом деле литература есть щель, есть игольное ушко, через которое обнаженный — не-воплощенный — человеческий голос может еще говорить с другими людьми, проникая в самые глубинные, взрывчатые и потаенные структуры, в самые главные и удивительные узловые пересечения биологической, социальной и ментальной жизни человека, — если, конечно, она, литература, не стоит на месте, если в своем неостановимом движении вбирает в себя все возможности и потенции, все конфликты и фантазии и предощущения, всё наличествующее и всё мыслимое; если отверзает себя до самого дна, рвется, распахивается, лопается — и в этом своем неудержимом порыве, преждевременном и не-воплощенном, исследует, взламывает, осваивает бесконечно более обширное измерение, в котором сама она пребывает и сохраняется.
[...]
У меня голова старика. Волосы редеют, седая борода становится все колючее, один глаз наполовину закрылся, другой — открытый и даже вытаращенный. Но тело пока худощавое и гладкое, как когда я был мальчиком. Я страдаю мигренью, периодическими потерями зрения, головокружениями, бессонницей, ишемической болезнью сердца, церебральной ишемией, обмороками, случаются и боли — в суставах, предродовые и менструальные. Мне трудно дышать, потому что повреждена носовая перегородка. Какая-то часть мозга плохо функционирует. Я даже не рискую левой рукой подрезать себе ногти на правой. На ягодицах образовались язвы — из-за того, что я слишком долго писал эту книгу. Я накладываю на язвы мазь, брызгаю на них спреем на основе металлического серебра. Куда же денешься. Но есть и хорошие новости: ни фига себе, все тридцать два зуба пока на месте!
Таков человек, который в течение многих лет — на стыке двух веков и двух тысячелетий — день за днем садился за стол и писал книгу, которую вы сейчас держите в руках. Я, правда, пропустил сколько-то времени после того, как закончил вторую часть, — как и после завершения первой части: чтобы обрести иное отношение к обездвиженному времени; и потому что не испытывал никакого почтения к себе, а хотел себя мучить, постоянно рвать нарративную ткань и автоматические приемы обращения с ней — ведь в противном случае ткань эта наращивается в горизонтальной плоскости, сама собой, и тебе кажется, ты делаешь одно, а получается совсем другое; и еще — чтобы всегда быть внутри разрыва, раны, перехода, чтобы чувствовать всем моим беззащитным телом драму рождения в нем другого тела. Удастся ли мне закончить книгу? — спрашиваю я себя. Потому что ощущаю тревогу, страх — в эти дни, как и всякий раз, когда принимаюсь за что-то новое; но только на сей раз все обстоит хуже, потому что мне уже не тридцать шесть, как когда я начинал «Начала», и даже не сорок шесть, как когда приступил к написанию первой части теперешней книги. Сейчас, как я уже говорил, мне пятьдесят восемь (ни фига себе, уже!), и здоровье мое стало еще более хрупким, чем тогда, в то время как здесь требуются — и всегда требовались, но теперь, если такое возможно, требуются еще больше — вся моя беззащитность и целостность, весь свойственный мне пыл: чтобы благополучно довести книгу до конца ее орбитального пути. И ведь я должен оставаться одновременно спокойным, беспристрастным, враждебным — внутри этой новой конфигурации пространства и времени. А потом, после, после... если наступит это после, если еще хватит времени, я очертя голову брошусь в нечто такое, что придумываю уже сейчас, — и тогда все будет доведено до своего финального предварения и завершения, каждый элемент совпадет с самим собой, сгорит внутри единого не-воплощенного пламени, и все в конце концов станет единым движением, единым мгновением, единым целым.
Несколько дней назад я вернулся из Германии. Видел тамошние города, разбомбленные и реконструированные, ирреальные. Я ездил туда на презентацию «Начал», переведенных на немецкий язык. Книги, где уже начинаются замедление, и обездвиживание, и противостояние. Где образуется этот пузырь, который потом лопнет. Книги, в пространство которой вторгается — и вихрится там — все то, что происходит сейчас и всегда, здесь-внутри. Книги, где впервые появляется Сукин Кот — мой Сукин Кот, наш. Пока в новой церковке кто-то играет на фисгармонии — ближе к вечеру, как мне помнится, когда солнце стоит низко, день заканчивается, — видно, как все больше сгущается тьма за окошками учебной аулы семинарии. Будто вся жизнь сжалась в этом одном месте. Сырость, тьма, сплющенные под тем же давильным прессом, что и вся атомарная масса универсума, — в точке, где достигают максимума обездвиживание, концентрация, боль. И я тогда стал бесконтрольно записывать неизвестно что — то, что продолжал писать и во все последующие годы, что пишу и сейчас. И потом он молниеносно ворвался в аулу, из церковки, застал меня врасплох — склоненным над этим изнасилованным листочком бумаги. Он ничего не сказал, не говорил многие и многие дни. А в конце разразился каскадом неконтролируемых взрывов смеха: смеялся в трапезной, в церкви, в нашем дортуаре, пока мы спали, — день за днем, со слезами на глазах. Ужасный и мучительный для меня смех, который еще не закончился, отголоски которого мы уже слышали и услышим еще не раз, здесь-внутри.
Я проехал на поездах через ряд возрожденных немецких городов, спланированных так, чтобы там было удобно жить; из конгломератов новых домов выбивались исторические окаменелости — шпили соборов, башни. Глядя на них, я отдалялся от реальности, думал, фантазировал. Теперь я снова здесь. На этом континенте и на этой планете, которые обездвижены, превзойдены — состоянием моего абсолютного одиночества и абсолютной власти. И вот я беру слово, прибегая к стихии итальянского языка — малой стихии, тоже уже обездвиженной, превзойденной и проданной. Но все-таки это стихия великого языка — древняя, сладостная, элегантная, простонародно-вульгарная, лиричная, текучая и сильная, какой умела быть только русская речь, когда с ней совокуплялись великие русские авторы. Она предстает такой — если ты входишь в нее без надежды, как в заброшенный дом, но потом совокупляешься с ней, как с последним на свете женским телом, познаешь ее до самых потаенных глубин и наполняешь собственным семенем, темным, отчаянным, жгучим. Из своей маленькой страны, превзойденной и проданной, управляемой экономическими кастами и неконтролируемыми криминально-олигархическими группами, обреченной на эту рабскую роль и в воронке обездвиженной истории утратившей всякую надежду... Я переношусь в ту убогую сферу, к которой свели литературу: ибо на самом деле литература есть щель, есть игольное ушко, через которое обнаженный — не-воплощенный — человеческий голос может еще говорить с другими людьми, проникая в самые глубинные, взрывчатые и потаенные структуры, в самые главные и удивительные узловые пересечения биологической, социальной и ментальной жизни человека, — если, конечно, она, литература, не стоит на месте, если в своем неостановимом движении вбирает в себя все возможности и потенции, все конфликты и фантазии и предощущения, всё наличествующее и всё мыслимое; если отверзает себя до самого дна, рвется, распахивается, лопается — и в этом своем неудержимом порыве, преждевременном и не-воплощенном, исследует, взламывает, осваивает бесконечно более обширное измерение, в котором сама она пребывает и сохраняется.
[...]
Надгробная речь у могилы Сумасброда
Кладбище обезлюдело. Все уже ушли. Даже те двое, что разговаривали, куря по последней сигарете, а потом удалились, зажав в кулаках бычки, потому что здесь-внутри курить не положено. Только ветер шумит на пустых дорожках, перекатывая гравий, какую-то пустую жестянку и сухие цветы, которые были в ней, которые в ней будут. Ничего не видно. Непроглядная ночь. Погасли даже огни у входа в крематорий, нет и сторожа, который обычно сидит в будочке рядом со входом, смотрит порнокассету, вставленную в маленький телевизор, — в пижаме, сжимая в руке член, опустив глаза и зевая, почти уже заснув.
Я не знаю, кто я. В темноте ощупываю руками лицо, чтобы понять, кто я, кем буду. Знаю только, что я здесь. Что кто-то поместил меня сюда, чтобы я произнес надгробную речь у могилы Сумасброда, который еще будет, если будет. Мне выпала честь приветствовать тебя еще прежде, чем ты будешь, — в этом преждепосле, которое было будет. Тебе повезло! Тебя инвестировали в тот момент, когда ты шагал по улице, смотрел на огни и предавался фантазиям, спеша к благовествованию, которое будет. Ты был инвестирован, развоплощен прежде... прежде чем будешь, прежде чем среди ночи покинешь свой дом и зашагаешь по улице, предаваясь фантазиям, не-воплощая, благовествуя, грезя о том, как напишешь эту книгу, которая будет, если будет: если будет грезить и возродится — благовествуя, не-воплощая. Ты уже совокупился с этой красавицей! Подумай сам — если бы прежде тебя не развоплотили, что бы с тобой сталось! Ты бы этого не осилил. Тебе не хватило бы сил. Ты был бы попросту уничтожен. Твои тело и разум не справились бы с таким испытанием. Оставаться все эти годы внутри такой не-воплощенной штуковины... Видеть, как твое тело и твое лицо не-воплощают то, что будет не-воплотит... А сверх того — ишемическая болезнь сердца и церебральная ишемия, обмороки и периодические потери зрения, головокружения, бессонница, предродовые и менструальные боли... У тебя образовались бы язвы на ягодицах из-за такого постоянного не-воплощения. Ты бы ставил эксперименты над собой — примерял на себя отчаяние того мира, который будет, возродится, умрет, не-воплотив... Тебе бы пришлось долгие годы пребывать между наковальней жизни и молотом этой книги, еще не-воплощенной. Ты бы мучился от того, что тебя не понимают, от одиночества, от мелочности людей, от их двуличия и склонности к обманам, от собственного малодушия. Поверь, так лучше — что ты не смог ее написать, ибо прежде был развоплощен, ибо твою планету продали раньше, ибо твой биологический вид был превзойден и развоплощен всего на мгновение раньше... Что ты остался в не-воплощенном. А значит, кто-то другой напишет, не-воплотит, и от этого будет страдать, не-воплощать... Ишемия, обмороки, временные потери зрения, головокружения, бессонница, предродовые и менструальные боли, язвы на ягодицах... Если он вообще что-то напишет, если не-воплотит, если будет. Ты же очертя голову бросился в не-воплощенное: как юноша, который отправляется на праздник — элегантный, со слегка презрительной улыбкой на устах. Ты — повелитель-невоплотитель народа, который не знает себя. Ты шагаешь во главе этого не знающего себя народа. Ты — повелитель невоплощенного народа, осознавший ежесекундную возможность рождения: ведь всё продолжает рождаться — чтобы не закрылась в народе рана подлинных родов и не возобновился порочный круг творения, воплощенного в человеческой истории и человеческом времени, чтобы не возобновились такие уже превзойденные и дезактивированные структуры. Ты — повелитель-невоплотитель, который вступил в противоборство с пространством и временем и обездвижил их, чтобы развоплотить лингвистическую плазму, заточенную в порочный круг неодухотворенных фонетических форм. Ты — повелитель-невоплотитель, который уклонился от ложного процесса творения, воплощаемого на этой планете — обездвиженной, превзойденной, проданной. Ты — повелитель-невоплотитель, который поспешил к благовествованию и сам стал благой вестью. Ты — повелитель-невоплотитель, инвестированный в самом начале благовествования, поэт, который принесет благую весть, умрет, воскреснет, будет вдохновлять, грезить, не-воплощать, познает себя, не-воплотив, будет. Ты — поэт, который впечатал себя в церебральную висцеральную не-воплотившуюся плазму этого преждепосле. Ты со своей супругой Антиниской, удивительной повесившейся девочкой, шагаешь во главе народа, который будет, если будет, если сыны его предпочтут повеситься, лишь бы не воплотиться. Ты шагаешь вместе с другими повелителями-невоплотителями, которые тоже спешат к благовествованию — в этом преждепосле; с теми, кто будет, инвестирует себя, станет предаваться фантазиям, грезить, благовествовать, не-воплощать — и кого преждепосле назовет теми не-воплощенными именами, которыми назовет; ты шагаешь со всеми другими повелителями-невоплотителями народа, который еще не знает, познает ли он себя, будет ли. Кто знает, какими именами их всех назовут? Кого, к примеру, Гомер назовет — тот, что Троянскую войну воспоет, если, конечно, станет, кем станет, не будет всего воплощать, не застрянет... И кто скажет, какими будут его смертные, его боги? А деревянный конь, полный невоплощенных теней, — чем станет он, если станет, если пространство-время, обездвиженное, застрянет, если Тень и Свет разделятся прежде чем разделятся и попадут в не-воплощенный Семенноград; если им пригрезится, что они туда попадут; если пригрезится что пригрезится что они туда попадут; если они познают себя, состоятся, если переступят предел, если предвосхитят себя, воскреснут, умрут, благовествуя и не-воплощаясь? Или те, кого Дант назовет-позовет — а сам в не-воплощенное преждепосле войдет, будет противу нашего преждепосле смотреть, не-воплощать, поперек шагать, и так до самых потусторонних ворот — тогда и то, что здесь-внутри, туда попадет: в том преждепосле, что настанет, если настанет, если не-воплотится и не застрянет... А у тех врат Старик-с-мастурбационным-парезом будет стоять — будет, ежели будет, ждать его, развоплощать... И тогда Дант в те ворота войдет; спустившись в бездну, по ступеням взойдет — к благовещенью, которое было будет. А после свою Меренгу найдет и в залитый светом дворец приведет, если все так и будет; держа ее за руку, по ступеням взведет... И свет не расслоится, не воплотится, а отраженное в зеркалах от амальгамы не отдалится, пока не сольется с черным светом, который будет, ежели будет, — еще прежде, чем состоится, не-воплотится. И для двух их голов состоится ласкать-целовать — еще прежде, чем это взаправду случится, в Семеннограде, который им прежде приснится: им приснится, что встреча их состоится; что в Чунцине, Шанхае они будут друг друга искать и потом, познавая друг друга, сумеют бессмертными стать... Мурасаки Сикибу кому-то даст имена; в преждепосле любимого встретит она: чтобы черной улыбкой ему улыбаться, чтоб любимым сквозь прорези век любоваться, чтоб мечтать о нем, и любить, и бессмертье ему дарить, но чтобы — не-воплотить; и черной каверной рта она будет его целовать, а после по улицам, не-воплощенным, гулять, если так будет; по снегу неслышно шаги отдалятся, будут власы ее, страты одежд развеваться, и сама она будет чернó улыбаться; не-воплощая, грезить о том, как будет по снегу шагать или, В-фольгу-заточенная, гибели ждать; как будет грезить о том, что в Семенноград придет и там станет грезить о том, что навстречу принцу идет — принцу Гэндзи, который, светлый, в наш мир снизойдет и всем благую весть принесет. Так и Мигель Сервантес будет в чьей-то зоне ментальной жить, будет, не-воплощая, собственный мир творить; перемещаясь, как очарованный странник, в том преждепосле, что настанет, если настанет, если он, поэт, мечтать-колдовать не устанет; если будет, в стоптанных сапогах, вдоль горизонта шагать и порой — хоть лишился руки — на ту сторону проникать; если сумеет не-воплощая мечтать в том нижевыше, которое он же найдет — еще прежде, чем преждепосле придет. И в тот страшный дворец он — в пламенных латах — войдет, и свою Донну-в-панцире-из-фольги спасет; не-воплотив, воскреснет, и снова умрет, и обессмертит себя... А кого-то Герман Мелвилл наречет-призовет, и народ его по протокам сознания вдаль поплывет — им приснится, что они по таким течениям семенным будут плыть, острова, обездвиженные заклятьем, стороной обходить: острова, которые будут, ежели будут, если Мелвилл опишет их, не-воплотив, и если народ его будет вдоль горизонта плыть, на планете, которая станет нашим преждепосле — если обездвижит, и превзойдет, и продаст, и не-воплотит себя... А кому-то Эмили Дикинсон даст имена; ей приснится, что она едет в коляске, со Смертью и Бессмертием; и она, не-воплощая, будет в Семеннограде грезить, как будет грезить, что и она тоже будет, что будет танцевать на балу с Сервантесом: она, в красном бархатном платье, и он, в светло-сером колете, с гофрированным воротником; и как он обхватит ее искалеченной рукой и будет смотреть на нее и она тоже будет на него смотреть сквозь полуприкрытые веки, будет ему улыбаться, все медленней перекатывая во рту жевательную резинку, и что головы их станут неразличимыми под огромными шарами-люстрами, которые там будут. И как из окна она будет смотреть на спастические цветы в саду, не-воплощая их, и, не воплотив, сгорит в пламени, которое было будет, — и тогда станет собой; сгорит вместе со своим народом, который был будет; с другими правителями-невоплотителями будет гореть и грезить, с ними обессмертит себя... А кого-то Федор Михайлович Достоевский именем наречет, чтобы раковая опухоль — церебральная масса — тоже научилась мечтать, не-воплощая... Если он еще будет знать... если будет, если народ его бросится очертя голову в не-воплощенное, если повесившаяся девочка повесится, развоплотив себя, если она станет женой Сумасброда преждепосле чем будет, чем принесет благую весть, обессмертив себя, прежде чем воскреснет, не-воплотит, прежде чем начнет грезить в эпилептической семенной массе, прежде чем изольется потопом, не-воплотив... Со всеми другими правителями-невоплотителями народа, который не знает, познает ли он себя, будет ли, станет ли не-воплощать — преждепосле чем будет; который бросится очертя голову в семенную буквенную плазму, взбаламутит ее, развоплотит. Который произнесет для него надгробную речь прежде чем произнесет, чем умрет, чем родится, чем узнает, кем будет если будет. Который на безлюдном кладбище дотронется до лица, чтобы узнать, кем он будет, какое имя получит, если будет, какую надгробную речь произнесет непроглядной ночью, которая будет, в темноте, которая есть преждепосле, которое будет, если будет; стоя на могиле, где — в том здесь-внутри, что внутри там — на самом деле похоронен неизвестно кто; в преждепосле — но прежде, чем оно будет, и после того, как будет, если будет... И тогда я тоже узнаю, кем буду: какое имя получу, если, не-воплотив, познаю себя; если буду, кем буду, и кем еще буду, и кем еще буду...
Я не знаю, кто я. В темноте ощупываю руками лицо, чтобы понять, кто я, кем буду. Знаю только, что я здесь. Что кто-то поместил меня сюда, чтобы я произнес надгробную речь у могилы Сумасброда, который еще будет, если будет. Мне выпала честь приветствовать тебя еще прежде, чем ты будешь, — в этом преждепосле, которое было будет. Тебе повезло! Тебя инвестировали в тот момент, когда ты шагал по улице, смотрел на огни и предавался фантазиям, спеша к благовествованию, которое будет. Ты был инвестирован, развоплощен прежде... прежде чем будешь, прежде чем среди ночи покинешь свой дом и зашагаешь по улице, предаваясь фантазиям, не-воплощая, благовествуя, грезя о том, как напишешь эту книгу, которая будет, если будет: если будет грезить и возродится — благовествуя, не-воплощая. Ты уже совокупился с этой красавицей! Подумай сам — если бы прежде тебя не развоплотили, что бы с тобой сталось! Ты бы этого не осилил. Тебе не хватило бы сил. Ты был бы попросту уничтожен. Твои тело и разум не справились бы с таким испытанием. Оставаться все эти годы внутри такой не-воплощенной штуковины... Видеть, как твое тело и твое лицо не-воплощают то, что будет не-воплотит... А сверх того — ишемическая болезнь сердца и церебральная ишемия, обмороки и периодические потери зрения, головокружения, бессонница, предродовые и менструальные боли... У тебя образовались бы язвы на ягодицах из-за такого постоянного не-воплощения. Ты бы ставил эксперименты над собой — примерял на себя отчаяние того мира, который будет, возродится, умрет, не-воплотив... Тебе бы пришлось долгие годы пребывать между наковальней жизни и молотом этой книги, еще не-воплощенной. Ты бы мучился от того, что тебя не понимают, от одиночества, от мелочности людей, от их двуличия и склонности к обманам, от собственного малодушия. Поверь, так лучше — что ты не смог ее написать, ибо прежде был развоплощен, ибо твою планету продали раньше, ибо твой биологический вид был превзойден и развоплощен всего на мгновение раньше... Что ты остался в не-воплощенном. А значит, кто-то другой напишет, не-воплотит, и от этого будет страдать, не-воплощать... Ишемия, обмороки, временные потери зрения, головокружения, бессонница, предродовые и менструальные боли, язвы на ягодицах... Если он вообще что-то напишет, если не-воплотит, если будет. Ты же очертя голову бросился в не-воплощенное: как юноша, который отправляется на праздник — элегантный, со слегка презрительной улыбкой на устах. Ты — повелитель-невоплотитель народа, который не знает себя. Ты шагаешь во главе этого не знающего себя народа. Ты — повелитель невоплощенного народа, осознавший ежесекундную возможность рождения: ведь всё продолжает рождаться — чтобы не закрылась в народе рана подлинных родов и не возобновился порочный круг творения, воплощенного в человеческой истории и человеческом времени, чтобы не возобновились такие уже превзойденные и дезактивированные структуры. Ты — повелитель-невоплотитель, который вступил в противоборство с пространством и временем и обездвижил их, чтобы развоплотить лингвистическую плазму, заточенную в порочный круг неодухотворенных фонетических форм. Ты — повелитель-невоплотитель, который уклонился от ложного процесса творения, воплощаемого на этой планете — обездвиженной, превзойденной, проданной. Ты — повелитель-невоплотитель, который поспешил к благовествованию и сам стал благой вестью. Ты — повелитель-невоплотитель, инвестированный в самом начале благовествования, поэт, который принесет благую весть, умрет, воскреснет, будет вдохновлять, грезить, не-воплощать, познает себя, не-воплотив, будет. Ты — поэт, который впечатал себя в церебральную висцеральную не-воплотившуюся плазму этого преждепосле. Ты со своей супругой Антиниской, удивительной повесившейся девочкой, шагаешь во главе народа, который будет, если будет, если сыны его предпочтут повеситься, лишь бы не воплотиться. Ты шагаешь вместе с другими повелителями-невоплотителями, которые тоже спешат к благовествованию — в этом преждепосле; с теми, кто будет, инвестирует себя, станет предаваться фантазиям, грезить, благовествовать, не-воплощать — и кого преждепосле назовет теми не-воплощенными именами, которыми назовет; ты шагаешь со всеми другими повелителями-невоплотителями народа, который еще не знает, познает ли он себя, будет ли. Кто знает, какими именами их всех назовут? Кого, к примеру, Гомер назовет — тот, что Троянскую войну воспоет, если, конечно, станет, кем станет, не будет всего воплощать, не застрянет... И кто скажет, какими будут его смертные, его боги? А деревянный конь, полный невоплощенных теней, — чем станет он, если станет, если пространство-время, обездвиженное, застрянет, если Тень и Свет разделятся прежде чем разделятся и попадут в не-воплощенный Семенноград; если им пригрезится, что они туда попадут; если пригрезится что пригрезится что они туда попадут; если они познают себя, состоятся, если переступят предел, если предвосхитят себя, воскреснут, умрут, благовествуя и не-воплощаясь? Или те, кого Дант назовет-позовет — а сам в не-воплощенное преждепосле войдет, будет противу нашего преждепосле смотреть, не-воплощать, поперек шагать, и так до самых потусторонних ворот — тогда и то, что здесь-внутри, туда попадет: в том преждепосле, что настанет, если настанет, если не-воплотится и не застрянет... А у тех врат Старик-с-мастурбационным-парезом будет стоять — будет, ежели будет, ждать его, развоплощать... И тогда Дант в те ворота войдет; спустившись в бездну, по ступеням взойдет — к благовещенью, которое было будет. А после свою Меренгу найдет и в залитый светом дворец приведет, если все так и будет; держа ее за руку, по ступеням взведет... И свет не расслоится, не воплотится, а отраженное в зеркалах от амальгамы не отдалится, пока не сольется с черным светом, который будет, ежели будет, — еще прежде, чем состоится, не-воплотится. И для двух их голов состоится ласкать-целовать — еще прежде, чем это взаправду случится, в Семеннограде, который им прежде приснится: им приснится, что встреча их состоится; что в Чунцине, Шанхае они будут друг друга искать и потом, познавая друг друга, сумеют бессмертными стать... Мурасаки Сикибу кому-то даст имена; в преждепосле любимого встретит она: чтобы черной улыбкой ему улыбаться, чтоб любимым сквозь прорези век любоваться, чтоб мечтать о нем, и любить, и бессмертье ему дарить, но чтобы — не-воплотить; и черной каверной рта она будет его целовать, а после по улицам, не-воплощенным, гулять, если так будет; по снегу неслышно шаги отдалятся, будут власы ее, страты одежд развеваться, и сама она будет чернó улыбаться; не-воплощая, грезить о том, как будет по снегу шагать или, В-фольгу-заточенная, гибели ждать; как будет грезить о том, что в Семенноград придет и там станет грезить о том, что навстречу принцу идет — принцу Гэндзи, который, светлый, в наш мир снизойдет и всем благую весть принесет. Так и Мигель Сервантес будет в чьей-то зоне ментальной жить, будет, не-воплощая, собственный мир творить; перемещаясь, как очарованный странник, в том преждепосле, что настанет, если настанет, если он, поэт, мечтать-колдовать не устанет; если будет, в стоптанных сапогах, вдоль горизонта шагать и порой — хоть лишился руки — на ту сторону проникать; если сумеет не-воплощая мечтать в том нижевыше, которое он же найдет — еще прежде, чем преждепосле придет. И в тот страшный дворец он — в пламенных латах — войдет, и свою Донну-в-панцире-из-фольги спасет; не-воплотив, воскреснет, и снова умрет, и обессмертит себя... А кого-то Герман Мелвилл наречет-призовет, и народ его по протокам сознания вдаль поплывет — им приснится, что они по таким течениям семенным будут плыть, острова, обездвиженные заклятьем, стороной обходить: острова, которые будут, ежели будут, если Мелвилл опишет их, не-воплотив, и если народ его будет вдоль горизонта плыть, на планете, которая станет нашим преждепосле — если обездвижит, и превзойдет, и продаст, и не-воплотит себя... А кому-то Эмили Дикинсон даст имена; ей приснится, что она едет в коляске, со Смертью и Бессмертием; и она, не-воплощая, будет в Семеннограде грезить, как будет грезить, что и она тоже будет, что будет танцевать на балу с Сервантесом: она, в красном бархатном платье, и он, в светло-сером колете, с гофрированным воротником; и как он обхватит ее искалеченной рукой и будет смотреть на нее и она тоже будет на него смотреть сквозь полуприкрытые веки, будет ему улыбаться, все медленней перекатывая во рту жевательную резинку, и что головы их станут неразличимыми под огромными шарами-люстрами, которые там будут. И как из окна она будет смотреть на спастические цветы в саду, не-воплощая их, и, не воплотив, сгорит в пламени, которое было будет, — и тогда станет собой; сгорит вместе со своим народом, который был будет; с другими правителями-невоплотителями будет гореть и грезить, с ними обессмертит себя... А кого-то Федор Михайлович Достоевский именем наречет, чтобы раковая опухоль — церебральная масса — тоже научилась мечтать, не-воплощая... Если он еще будет знать... если будет, если народ его бросится очертя голову в не-воплощенное, если повесившаяся девочка повесится, развоплотив себя, если она станет женой Сумасброда преждепосле чем будет, чем принесет благую весть, обессмертив себя, прежде чем воскреснет, не-воплотит, прежде чем начнет грезить в эпилептической семенной массе, прежде чем изольется потопом, не-воплотив... Со всеми другими правителями-невоплотителями народа, который не знает, познает ли он себя, будет ли, станет ли не-воплощать — преждепосле чем будет; который бросится очертя голову в семенную буквенную плазму, взбаламутит ее, развоплотит. Который произнесет для него надгробную речь прежде чем произнесет, чем умрет, чем родится, чем узнает, кем будет если будет. Который на безлюдном кладбище дотронется до лица, чтобы узнать, кем он будет, какое имя получит, если будет, какую надгробную речь произнесет непроглядной ночью, которая будет, в темноте, которая есть преждепосле, которое будет, если будет; стоя на могиле, где — в том здесь-внутри, что внутри там — на самом деле похоронен неизвестно кто; в преждепосле — но прежде, чем оно будет, и после того, как будет, если будет... И тогда я тоже узнаю, кем буду: какое имя получу, если, не-воплотив, познаю себя; если буду, кем буду, и кем еще буду, и кем еще буду...
Внутренняя секреция мира: не-воплощенное
Уже не слышно голосов надо мной — этих двоих, что беседовали, прежде чем удалиться, и третьего, который произнес надгробную речь на безлюдном кладбище. Кто бы это мог быть? Где они его подцепили? Его, должно быть, приволокли сюда за ухо, принудили произнести речь на моей могиле. Теперь воцарилась тишина. Кругом покой. И непроглядная тьма. Я чувствую вонь — значит, они забыли заткнуть мой анус марлевым тампоном, прежде чем хоронить меня здесь-внутри. Привычное сдвинулось со своих мест. Я еще, как и с самого начала, нахожусь здесь-внутри, и все же теперь я не здесь-внутри. Кто же я? Где я? Куда меня занесло? Я все еще там, откуда начинал, только вот это там уже не там, да и здесь-внутри уже не здесь, оно куда-то сместилось. Теперь нельзя даже вернуться к началу, чтобы воспользоваться воплощенной возможностью повторения и дублирования, потому что за истекшее время и начало сместилось — оно уже не в начале. А спешит навстречу началу, двигаясь с противоположной стороны. Может, все, что произошло здесь-внутри, случилось лишь потому, что никто так и не написал эту книгу, ее не существует. Я ли тот, кто ее не напишет? Я — не-воплощенный поэт, пришедший в этот мир в самом конце, но в таком конце, что на нашей планете — обездвиженной, превзойденной и проданной — предшествует началу. И я свидетель конца своего биологического вида, а также расширения спектра биологических видов. Сам я еще принадлежу к этому человеческому виду, но пишу для другого вида, которого еще нет и не известно даже, правда ли, что его нет, будет ли он. Так что же станет с этой не-воплощенной книгой? Появится ли когда-нибудь тот, кто ее не напишет? Может, все то, что обрело жизнь, взбаламутилось здесь-внутри, случилось за какую-то долю секунды в моем подпольном сознании, дезактивированном и не-воплощенном. Этой книги не существует, она не воплощена. Ни одна книга никогда не писалась и не может быть написана таким образом. Мне же повезло лишь в том, что меня инвестировали за мгновенье до того, как все началось. Я — не-воплощенный писатель, который на протяжении многих лет готовился к появлению произведения, никогда прежде не виданного. Как бы я назвал его? «Песни хаоса» или что-то в таком духе, пожалуй. Прошлой ночью, прежде чем лечь спать, я вышел из дому, чтобы пройтись и посмотреть на уличные огни. Я ничего не увидел, ничего не понял. Должно быть, меня инвестировала какая-то машина, пока я шагал и предавался своим фантазиям. И на столе моем осталась эта беспорядочная кипа листов, с заметками, нацарапанными на улице или когда я просыпался среди ночи и в темноте тянулся за стоящей на тумбочке банкой пива. Никто не сумеет понять их, расшифровать, и уж тем более — разобраться во всех моих проекциях и воплощениях. Я — не воплощенный, не зачатый поэт. Я умираю с противоположной стороны, в обратном направлении, не будучи ни рожденным, ни даже зачатым. Я ухожу из этого проекта — ухожу, так сказать, с первого взгляда, — покидаю эту океаническую стихию, влажно-необузданную и уже воплощенную. Но тогда кто я? Где я? Я — в пространстве неизбывного одиночества, сопряженного с тем началом, что существует преждепосле всякого возможного начала. Я — не-зачатый, который должен пройти в обратном направлении через собственную жизнь и собственную смерть и в полной мере испытывает то неизбывное одиночество, от которого страдает любое тело, умирающее в изоляции, не-зачатым и не-воплощенным. Я одинок, совершенно одинок. Какое неизбывное одиночество сопряжено с началом! Я одинок, как не был одинок ни один другой поэт нашего биологического вида. Я — правитель планеты и мира, которых больше нет, которых еще нет. Я, будучи не-зачатым, переживаю неизбывное одиночество тела, которое осознает свою изолированность, хотя еще не воплощено. Я — тот не-зачатый, который родится прежде, чем будет зачат, и который уже сейчас умирает, не будучи рожденным. Я нахожусь в игольном ушке пространства-времени, обездвиженного и не-воплощенного, — вместе с моим не-зачатым народом, который взламывает фиксированные пределы воплотившегося рождения и воплотившейся смерти. Я — в той беспредельной и не-воплощенной зоне, что отделяет зачатое от не-зачатого, каким оно бывает прежде, чем становится не-зачатым. Я эту зону беспредельно расширяю спасительным снарядом своей головы, вторгающейся в не-воплощенное. Вы и представить себе не можете, что происходит здесь-внутри, в этом преждепосле. Вы не знаете, какое мощное спасительное движение мертвецов разворачивается в это мгновение — за мгновение до того, как оно станет этим мгновением. Вы уверены, что именно климатические изменения, насыщение атмосферы парниковыми газами, таяние льдов и повышение уровня воды в океанах и морях на этой маленькой планете, превзойденной и проданной, являются причинами эпохальных планетарных мутаций. А в действительности все дело в не-воплощенных подпочвенных телах, которые услышали благую весть и — в преждепосле — пришли в движение, стали обрушивающейся вверх лавиной. Мое мертвое не-воплощенное тело пронизано восходящим движением моего не-зачатого народа, который, словно лавина, устремляется в направлении, противоположном естественному, — к катастрофе своего возрождения. Вся не-воплощенная линия горизонта, и вынырнувшие материки, и океаны с их не-воплощенными течениями, и ледовые шапки, арктическая и антарктическая, вибрируют и раскалываются и тают и сплавляются воедино под воздействием термической энергии, которая высвобождается из-за того, что не-воплотившиеся народы мертвецов, и все сперматозоиды, и все зародышевые клетки устремляются снизу вверх, к своему возрождению. Весь не-воплощенный мир перевернулся в результате сейсмического процесса возрождения. Все его химические, минеральные, генетические структуры, его растительные, животные, антропоморфные формы, мгновенно потеряв равновесие здесь-внутри, попали под воздействие кузнечных мехов фантазии, не-воплощения, возрождения. Все существа, которые уже освоили прямохождение, и те массы еще не вполне живых существ, что перемещались по только что вынырнувшим из океанических вод плотам-континентам, лавиной устремляются в направлении, противоположном естественному, — к химическим восходящим каскадам не-зачатия и возрождения. Все тела, которые уже противостояли друг другу как мужские и женские формы, теперь спешат вырваться из вагинальной катакомбы возрождения. Где ты? Где ты? Обрели ли мы наконец сообразное нам воскрешающее пространство? Начали ли наконец развоплощать себя здесь — в не-воплощенном, еще не зачатом? Неужели именно мы — те, кто развоплощает себя здесь? Неужели и мы тоже — среди возрождающегося народа? О мой благоуханный не-воплощенный олень, о моя газель с не-воплотившимися очами, нам обоим довелось пройти сквозь игольное ушко света и тени, разделенных, не-воплощенных, и пережить возрождающий потоп, разлив семенной стихии, не-зачатой и не-воплощенной: чтобы встретить тебя, развоплотить тебя, который уже не ты, и меня, которая уже не я, — еще прежде чем появимся ты и я, даже прежде чем будем зачаты ты и я; прежде чем на широких не-воплощенных улицах Чунцина я наконец зашагаю навстречу тебе, навстречу тебе-мне, и мы узнаем друг друга прежде, чем будем: только если тогда нас еще не будет, мы сумеем друг друга узнать, и друг друга зачать, и обессмертить себя, и возродиться. Вот мы трогаем, ласкаем друг друга метастазами наших рук, еще не зачатых, проникаем друг другу в головы, в еще не зачатые рты текучими мускулами наших не-воплощенных языков и спасительной слюной. Проникаем в утробы друг другу, в утробы восходящие и ладно устроенные, — еще прежде, чем придет возрождающий химический потоп, зачатый не-воплощенными телами, научившимися ласкать и развоплощать друг друга. А когда это случится, не-зачатое — я и ты — сможет наконец не-зачать тебя и меня, полюбить тебя и меня, поцеловать тебя и меня, совокупиться с тобой и со мной — в том не-зачатом, которое есть ты и я. В возрождающемся тенесвете, освещающем то не-зачатое, что развоплощает то здесь, которое уже не здесь: в том дворце, полном света, куда сейчас входит не-зачатое, существовавшее до тебя и меня, — входит возрождаясь, не-воплощаясь. Вот и мы с тобой входим в этот дворец света — не-зачатого и не-воплощенного. Где ты? Где ты? Может ли быть, что ты и я попали во дворец света, который существует еще прежде, чем будет? Что существует планета, которая родится, превзойдет себя, будет благовествовать, продаст и купит себя, возродится, не-воплотится? Кто же ее купит? И где это произойдет? И кем будет покупатель? Где он будет, преждепосле чем купит ее, преждепосле чем не-зачнет и не-воплотит? Уж не я ли тот, кто купит ее? Кто уже ее купил, еще прежде, чем купит, а потому и сам теперь захвачен тем спасительным движением, которое пронизывает и развоплощает эту не-зачатую, не-воплощенную планету вместе с ее не-воплощенным покупателем? Выходит, и я теперь оказался здесь — в спасительном не-воплощенном потоке, который устремляется в направлении, противоположном естественному, становясь восходящей лавиной преждепосле. Но все же — я тот, кто купил ее, или тот, кто продал? Почему в этом сместившемся здесь-внутри, в этом сместившемся преждепосле покупатель и продавец — одно и то же, почему они вовлечены в единый спасительный поток не-зачатия и не-воплощения? Я пытаюсь шевельнуть рукой, пальцами, совершить не-воплощенное движение — ощупать свое лицо. И чувствую под подушечками пальцев гладкую, твердую, не-воплощенную поверхность — образовавшуюся то ли в результате ороговения отмирающих тканей, то ли, наоборот, под воздействием предшествующих рождению процессов в восходящей лавине преждепосле. Что же это у меня на лице? Похоже, что-то неимоверно гладкое, не-воплощенное. Неужели — маска из фарфора? Но почему меня похоронили с этой фарфоровой маской? Если я Бог, то когда я буду развоплощен? И как происходит, что Бог вдруг становится развоплощенным? А если Бог может быть только не-воплощенным, то внутри чего в свое время прокатилась взрывная волна воплотившегося сотворения мира? И потом — если Бог это Бог воплотившихся, земных тварей, то кто же тогда Бог не-воплощенных? Тот, кто проходит сквозь игольное ушко не-воплощенного, чтобы стать Богом не-зачатых и не-воплощенных? Тот, кто занимается не-воплощением во время катастрофы не-воплощенного возрождения? Неужели я — Бог, который мыслит себя самого, еще будучи не-зачатым и не-воплощенным? Или я — геном Бога, вовлеченный в спасительный генетический процесс не-зачатия и не-воплощения? Геном, состоящий из трех миллиардов пар оснований, не воплощенных. Или — лишь один немой ген Бога? Или — митохондрия Бога? Вошедшая в симбиоз с клетками высших не-воплощенных организмов на миллиард лет преждепосле, чем она будет? Может, есть Бог-австралопитек, не-воплощенный, — существующий преждепосле существа, которое станет человеком и обезьяной, разделится, если оно разделится, и начнет не-зачинать себя, не-воплощать? Преждепосле — когда не будет человека и обезьяны, разделившихся: их не будет еще, не будет уже. Преждепосле того, как первые ядерные клетки — эукариоты — даруют жизнь первым многоклеточным организмам, а потом, в эпоху кембрийского взрыва, появятся первые устремленные вверх тела. Они-то теперь и оказались в там, которое уже не там, — в этом сместившемся начале, существующем прежде, чем оно будет. Преждепосле образования первых звездных скоплений и газообразных глобул, еще только формирующихся на вершинах «Столпов Творения» Туманности Орел, а также холодных гигантских облаков, полных едва родившихся звезд и протозвезд в состоянии самовозгорания, развоплощения, с их вращающимися пылевыми дисками, от которых родятся новые не-воплощенные планеты. Преждепосле того, как начнется коллапс таких новых не-воплощенных звезд и они превратятся в нейтронные звезды, будут излучать в преждепосле наши спасительные атомы, возникнут звездные ветры, которые странствуют сотни миллионов лет, прежде чем станут пылевым диском, который вращается вокруг такой звезды, как наше не-воплощенное Солнце или наша не-воплощенная маленькая планета Земля, или проникнут внутрь наших тел, в не-воплощенную церебральную материю — о которой упомянутый Бог и толкует вам, не-воплощая и не зная, умирает он в данный момент или рождается. Преждепосле того, как расширяющаяся Вселенная остынет, ионы и электроны объединятся, туман рассеется и вся Вселенная будет темной, пока не загорятся первые звезды преждепосле чем она будет, не-воплотится, и темная материя окутает нас, развоплотит, посредством своего гравитационного притяжения, которого не будет — только если оно будет, его не будет, — и вихрей не-воплощенных частиц, лишенных электрического заряда, который будет пронизывать нас, развоплощать еще прежде чем будет, прежде чем не будет, который будет нашим остаточным следом — не-зачинающим, не-воплощающим. Может, я и есть та темная энергия, появившаяся в первое мгновение, за мгновение до преждепосле существования Вселенной? Или я — темная материя, почти полностью заполняющая собой то, что находится здесь-внутри-там, и эту книгу, еще не воплощенную, автором которой я не буду, вы же видели только ее остаточный след, превзойденный и не-воплощенный? Преждепосле того, как наша не-воплощенная звезда умрет, родится, не-воплотит, и наша не-воплощенная галактика столкнется с галактикой Андромеды, которая будет, и произойдет коллапс Вселенной, которая потом начнет расширяться, не-зачиная и не-воплощая. Что же происходит здесь-внутри-там? Прогрессирующее остывание или прогрессирующее нагревание? Преждепосле того, как нейтронные звезды и белые карлики погаснут и, преждепосле свечения последних мертвых звезд, останутся только вихри частиц темной материи — память и мысль в этих потоках магнитной индукции и магнитных полях, пребывающих в фазе возрождения. Может, я сам и есть такая память и мысль? Преждепосле чем галактика Андромеды и другие спутниковые галактики сольются в единое не-воплощенное скопление трупов звезд и темной материи, которым буду я, не-воплощающий; тот, кто будет перемещаться в потоках не-воплощенного океана, грезить, не-зачинать, не-воплощать — преждепосле чем буду, чем буду той нуклеарной печью, что выбросит раскаленные молекулы к границам пространства и раздвинет его, развоплотит. Преждепосле того, как родится спасительный снаряд — сердцерука. Может, я и есть эта сердцерука, которая будет? Что за страшные судороги сотрясают мое не-воплощенное тело? Я так умираю, не будучи зачатым? Или — рождаюсь? И неужели это моя расширившаяся голова, еще не вполне окостеневшая, выдерживает сейчас жуткие сокращения маточной мускулатуры и мускулатуры брюшного пресса, не-воплощенных? И переживает, не будучи зачатой, страшное и безвозвратное перемещение того, кого сейчас зачинают в не-зачатом? Неужели я могу быть зачат только внутри не-зачатого? Я — расширившаяся голова, которая переживает сейчас процесс не-зачатия и не-воплощения, или голова того потока, что устремляется против амниотической стены: обездвиженного и не-воплощенного океана? Или в эту долю мгновения я вхожу в мгновение преждепосле того мгновения, когда я был без сознания — что предшествует смерти в процессе не-зачатия не-воплощенной смерти? Спасительный снаряд моей головы пробивает сейчас мешок, содержащий околоплодные воды, или — стену пространства-времени, обездвиженного, не-зачатого и развоплощенного в процессе спасительного движения навстречу преждепосле? И где же это я рассуждаю таким образом, не будучи зачатым? Почему не отваживаюсь пошевелить конечностями? Одна стопа у меня болит, как если бы была заточена во что-то наподобие железного башмака. Что же это за башмак? Может, я Сукин Кот? Но разве такой башмак носил не тот, другой? Как его звали? Уже не помню, может быть — Сумасброд. Но не я ли был Сумасбродом? Не помню, я ли носил такой башмак или тот, другой. А может, каждый из нас имел по такому башмаку. Чем же было все то, чему предстоит произойти здесь-внутри? Неужели — только трепетом моего не-воплощенного сознания? Кто рассказал его в этот раз, это начало? Я ли рассказал — и в этот ли раз, или преждепосле этого раза? История сотворения нашего мира была рассказана демоном, в этот раз? Или она была рассказана демоном в первый раз? Неужели все, что произошло здесь-внутри, случилось за какую-то долю секунды в желтке моего семенного мозга, который постепенно угасает, не-воплощая, в этом исполненном отчаяния покое не-воплощенной жизни? Где дверь, чтобы выйти? Где — чтоб войти? Я выхожу из темной и жаркой могилы или вхожу туда? Я сейчас спускаюсь по вагинальному каналу, находя для себя путь в семявыносящем протоке, — или вхожу в ту потусторонность, что существует преждепосле чем будет? А сейчас я где? Кто это идет мне навстречу, с таким торжественным видом? Да это же тот старик с мастурбационным парезом! Значит, я все-таки в потусторонности, которая существует преждепосле чем будет! Но как она может быть потусторонностью, если потусторонность уже не там? Если начало уже не здесь? Что же это за потусторонность — то, что будет? По отношению к чему это будет потусторонностью — в не-воплощенном, которое будет существовать преждепосле чем начнет не-зачинать, не-воплощать?
— Входи же! Входи! И он войдет! — скажет он мне тогда.
— Но — куда и кто? — спрошу я его. — И что это за потусторонность, которая будет? И мы сами — кем будем?
— Теми, кто будет здесь, будет нас не-зачинать, не-воплощать!
— А почему у вас рука будет дрожать? — спрошу я его.
— Будет дрожать, потому что рука — в том не-зачатом, что пребывает в потусторонности, которая будет, — ответит он мне, преждепосле чем его семенной мозг наконец начнет эякулировать длинными струями, а рука — аккомпанировать этому процессу; другой же рукой он наконец передаст эту не-воплощенную рукопись — не-зачав ее, не-воплотив — своему издателю-невоплотителю, который специально явится, чтобы забрать ее и оставить в не-зачатом потустороннем, преждепосле чем она будет. Только так он ее осилит-найдет. Тот, кто специально совершил это бесконечное мгновенное путешествие в не-зачатое, чтобы попасть туда преждепосле чем попадет, чтобы осилить-забрать рукопись у этого-того, чтобы развоплотить. Там же — и все другие не-зачатые, которые умерли не-зачатыми прежде, чем будет здесь-внутри-там, которое, правда, уже не там и еще не там. И Дитя света тоже именно там будет тем, чем будет.
— А ты кем будешь? — спросит он тогда.
— Я Дитя света, не-зачатое и возрожденное, прежде чем оно родится, и возродится, и не-воплотит, и станет не-зачатым светом.
— А ты кем будешь? — спросит он тогда.
— Я буду тобой.
— А я тогда кем буду?
— Будешь мной, тем не-зачатым младенцем, что родится от света.
И тогда один навстречу другому шагнет, прежде чем шагнет. И тогда я, с противоположной стороны, в не-зачатое Дитя света войду. И с другой стороны на противоположную сторону выйду, прежде чем войду. И буду одним с Дитем света именно в тот момент, когда Одно станет Двумя — не-зачиная их, не-воплощая. Буду частью того спасительного движения в родовом канале, которое обязательно будет, хоть и без зачатия и воплощения.
Что же это за движение, которое выталкивает в преждепосле мою раздавшуюся вширь семенную голову, и лобный родничок, и сам лоб? Куда оно их выталкивает? Кто стучится глубокой ночью в дверь моего замка? Какой смрад! Ужас! Я умираю или рождаюсь? Я совершаю квантовый скачок от вечности к обычному времени или от обычного времени к вечности? Кто меня сейчас не-зачинает, не-воплощает? Что это за ужасные судороги, которые вот-вот выбросят меня во внутриснаружи, в не-зачатое, — меня, который еще не зачат? Кто это взламывает глубокой ночью дверь моего замка, чтобы вышвырнуть меня в катастрофу жизнесмерти? Где я? Кто я? Я умираю или рождаюсь?
Но независимо от того, кто я есмь-буду, я поворачиваюсь на бок, я повернусь. Пробую пошевелить рукой в непроглядной тьме, которую расшевелю; ощупываю в последний первый раз поверхность лица, закрытые глаза, лоб, нос, уши, рот, чтобы наконец узнать, кто я есмь-буду, если буду. Чувствую — под подушечками не-воплощенных пальцев, которые ощупывают контуры не-воплощенных губ, — как рот мой все больше растягивается.
«Мое время закончилось. Началось мое время», — думаю-подумаю я за мгновенье до того как подумаю; в черном свете, который будет; в не-воплощенном, которое будет; в моем семенном не-воплощенном сознании, которое будет, — на мгновение прежде, чем оно будет. Чем появится и улыбнется-улыбнется-улыбнется в не-воплощенном.
— Входи же! Входи! И он войдет! — скажет он мне тогда.
— Но — куда и кто? — спрошу я его. — И что это за потусторонность, которая будет? И мы сами — кем будем?
— Теми, кто будет здесь, будет нас не-зачинать, не-воплощать!
— А почему у вас рука будет дрожать? — спрошу я его.
— Будет дрожать, потому что рука — в том не-зачатом, что пребывает в потусторонности, которая будет, — ответит он мне, преждепосле чем его семенной мозг наконец начнет эякулировать длинными струями, а рука — аккомпанировать этому процессу; другой же рукой он наконец передаст эту не-воплощенную рукопись — не-зачав ее, не-воплотив — своему издателю-невоплотителю, который специально явится, чтобы забрать ее и оставить в не-зачатом потустороннем, преждепосле чем она будет. Только так он ее осилит-найдет. Тот, кто специально совершил это бесконечное мгновенное путешествие в не-зачатое, чтобы попасть туда преждепосле чем попадет, чтобы осилить-забрать рукопись у этого-того, чтобы развоплотить. Там же — и все другие не-зачатые, которые умерли не-зачатыми прежде, чем будет здесь-внутри-там, которое, правда, уже не там и еще не там. И Дитя света тоже именно там будет тем, чем будет.
— А ты кем будешь? — спросит он тогда.
— Я Дитя света, не-зачатое и возрожденное, прежде чем оно родится, и возродится, и не-воплотит, и станет не-зачатым светом.
— А ты кем будешь? — спросит он тогда.
— Я буду тобой.
— А я тогда кем буду?
— Будешь мной, тем не-зачатым младенцем, что родится от света.
И тогда один навстречу другому шагнет, прежде чем шагнет. И тогда я, с противоположной стороны, в не-зачатое Дитя света войду. И с другой стороны на противоположную сторону выйду, прежде чем войду. И буду одним с Дитем света именно в тот момент, когда Одно станет Двумя — не-зачиная их, не-воплощая. Буду частью того спасительного движения в родовом канале, которое обязательно будет, хоть и без зачатия и воплощения.
Что же это за движение, которое выталкивает в преждепосле мою раздавшуюся вширь семенную голову, и лобный родничок, и сам лоб? Куда оно их выталкивает? Кто стучится глубокой ночью в дверь моего замка? Какой смрад! Ужас! Я умираю или рождаюсь? Я совершаю квантовый скачок от вечности к обычному времени или от обычного времени к вечности? Кто меня сейчас не-зачинает, не-воплощает? Что это за ужасные судороги, которые вот-вот выбросят меня во внутриснаружи, в не-зачатое, — меня, который еще не зачат? Кто это взламывает глубокой ночью дверь моего замка, чтобы вышвырнуть меня в катастрофу жизнесмерти? Где я? Кто я? Я умираю или рождаюсь?
Но независимо от того, кто я есмь-буду, я поворачиваюсь на бок, я повернусь. Пробую пошевелить рукой в непроглядной тьме, которую расшевелю; ощупываю в последний первый раз поверхность лица, закрытые глаза, лоб, нос, уши, рот, чтобы наконец узнать, кто я есмь-буду, если буду. Чувствую — под подушечками не-воплощенных пальцев, которые ощупывают контуры не-воплощенных губ, — как рот мой все больше растягивается.
«Мое время закончилось. Началось мое время», — думаю-подумаю я за мгновенье до того как подумаю; в черном свете, который будет; в не-воплощенном, которое будет; в моем семенном не-воплощенном сознании, которое будет, — на мгновение прежде, чем оно будет. Чем появится и улыбнется-улыбнется-улыбнется в не-воплощенном.


