Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Перевод Сергея Карпова.
Перевод Сергея Кумыша.
Опубликовано в The New Yorker 9 и 10 июля 2012 года.
Письмо жюри Пулитцеровской премии
Автор Майкл Каннингем
Перевод Ульяны Мытаревой
Редактор Стас Кин
Перевод Ульяны Мытаревой
Редактор Стас Кин
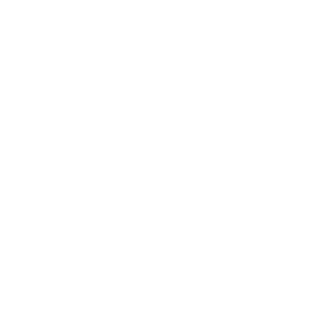
Часть I:
Что на самом деле произошло в этом году
Что на самом деле произошло в этом году
6 апреля 2012 года совет Пулитцеровской премии объявил о том, что награда в номинации «Художественная литература» не будет присуждена никому. Это стало сюрпризом и разочарованием для некоторого количества людей и в особенности членов судейской коллегии этой номинации, прочитавших более трех сотен романов и сборников рассказов и в конце концов определивших трех финалистов, каждый из которых (по крайней мере, нам так казалось) являлся по-своему выдающимся.
Мы номинировали «Бледного короля» Дэвида Фостера Уоллеса — книгу не просто не законченную к моменту смерти писателя, но оставленную в полном беспорядке и блистательно собранную воедино его редактором, Майклом Питчем; мрачный и неземной роман «Сны поездов» Дениса Джонсона, действие которого происходит на западе Америки на рубеже XIX и ХХ веков; и талантливый первый роман «Свампландия!» про эксцентричную семью южан, написанный пугающе молодой писательницей Карен Расселл.
Судейская коллегия по художественной литературе, из года в год меняющая свой состав, предлагает три книги на голосование совету, состоящему из восемнадцати членов, в основном академиков и журналистов, которые сменяются каждые три года.
Жюри не определяет победителя и даже не отмечает фаворита. Жюри предоставляет совету три равноценных варианта. Члены совета могут, в случае, если они не удовлетворены выбором трех номинантов, запросить четвертую опцию. Никакого запроса так и не поступило.
Я был одним из членов судейской коллегии в 2012 году, и я писатель-романист. Двое других членов жюри того года: Морин Корриган, литературный критик из «Fresh Air», программы на NPR (National Public Radio), и профессор английского языка в Джорджтаунском университете, и Сьюзан Ларсон, бывший книжный редактор газеты Times-Picayune штата Нью-Орлеан и ведущая «The Reading Life» на NPR. (И Корриган, и Ларсон дали свое согласие на упоминание в этой статье.)
Мы трое были шокированы решением (или не-решением) совета, поскольку, в действительности, пребывали в полном восторге не только от выбранных нами книг, но и от нескольких других, остановившихся в полушаге от финала. И ни единой секунды не думали, будто с трудом наскребли три книжки, которые хоть как-то подходили для того, чтобы всучить им премию. По окончании чтения и обсуждения мы сошлись на том, что современная американская художественная литература — весьма разнообразный, изобретательный, амбициозный и (вероятно, самое важное) до сих пор актуальный, а, значит, живой вид искусства.
Несмотря на это в 2012-м премию вручать не стали.
Что же произошло?
Обсуждения совета засекречены. И никто из посторонних никогда не узнает, почему они решили отказать в присуждении премии.
Однако мне удалось несколько больше узнать о том, как формируются шорт-листы и как выбираются «лучшие» книги — этот процесс всегда оставался для меня загадкой. Как и многие другие, я зачастую испытывал недоумение после объявления лауреатов.
Серьезно? Эта книга? О чем только эти люди думали?
Могу рассказать, о чем думали эти три человека в 2012-м году.
Во-первых — возможно, это очевиднее всего — у каждого члена жюри свой вкус и мнение, и, как бы они ни старались, абсолютная объективность недостижима. Другой состав в том же году мог бы номинировать другие три книги, каждая из которых, вероятно, куда больше понравилась бы совету.
Но они могли бы запросить четвертую.
Впрочем, абсолютная объективность в оценке литературы не только невозможна, но и нежелательна. Художественная литература содержит микроэлементы магии; она работает по разным причинам: одни из них мы можем объяснить, другие — нет. Если бы романы или сборники рассказов оценивали строго исходя из компонентов (полностью раскрытые персонажи — есть; оригинальная подача — есть; уверенная структура — есть; серьезная тема — есть), то они бы удовлетворяли всем требованиям, но утратили способность зачаровывать. Великое художественное произведение подразумевает определенный фриссон, возникающий, когда различные его компоненты соединяются и воспламеняются. И причина пожара должна в некоторой степени ускользать от экспертов, направленных для расследования.
Рекомендации для отбора (по счастью, весьма лояльные) предписывают относиться к непостижимым аспектам художественной литературы с должным уважением. Победившая в номинации книга, будь то роман или сборник рассказов, должна быть написана американским автором и, в идеале, в какой-то мере отображать американский образ жизни.
Вот и всё.
В наш первый разговор (мы все живем в разных городах и лично встречались лишь единожды) в июне 2011-го Морин, Сьюзан и я пришли к некоторым соглашениям, как и, наверняка, члены жюри до нас. О том, что мы не будем отдавать предпочтение неизвестным писателям (кому бы не понравился таинственный, никем не открытый гений?) или намеренно судить известных строже. Или что будем склоняться в сторону обстоятельных, хоть и не безупречных трудов, а не искусно сложенных миниатюр. Мы предпочли исследователей-мечтателей скромным садовникам и объявили о готовности прощать определенные недостатки или чрезмерное усердие писателю, который явно пытается добиться большего, чем возможно посредством нанесения чернил на бумагу.
Вскоре после этого начали приходить книги.
Примерно три сотни — все отобраны из числа написанных за год самыми разными авторами — но приходили они частями, по тридцать за раз. Мы втроем одновременно читали один и тот же набор, хоть и не обязательно одну и ту же книгу.
Вы, наверное, не слишком удивитесь, но многие из них довольно легко было забраковать. Тривиальные, плохо написанные, жуткие, перехваленные, унылые — список можно продолжать вечно. Некоторые были прекрасны, но этого недостаточно для премии подобного масштаба.
Каждый из нас составлял список и заносил туда любую книгу, которая хотя бы на йоту казалась пригодной для номинации. Как только заканчивалось чтение партии подающих надежды, мы делились друг с другом списками «стóящих» и обсуждали, почему нам понравилась та или иная книга. Мы ничего не исключали — просто объединяли три списка и переходили к следующей тридцатке.
Кажется, будто на начальных этапах отбора большинство литературных судейских коллегий состоят в каком-то негласном сговоре. Согласиться с тем, что у одних книг нет никакого шанса, а у других есть явное преимущество, не составляет особого труда. Споры начинаются позже, когда приходит время исключать из списка финалистов весьма достойные книги.
Самым впечатляющим стал момент, когда я вытащил из третьей посылки «Бледного короля» Уоллеса. Должен признаться, никогда не был большим фанатом «Бесконечной шутки» и, открыв «Бледного короля», сразу подумал: выбор сомнительный, учитывая, что Уоллес умер, так и не закончив роман.
Так получилось, что из нас троих я первым прочитал «Бледного короля»; еще задолго до окончания чтения я позвонил Морин и Сьюзан и сказал: «Один только первый абзац книги Уоллеса куда сильнее, чем любая прочитанная нами книга целиком».
Только посмотрите, как роман начинается:
Мы номинировали «Бледного короля» Дэвида Фостера Уоллеса — книгу не просто не законченную к моменту смерти писателя, но оставленную в полном беспорядке и блистательно собранную воедино его редактором, Майклом Питчем; мрачный и неземной роман «Сны поездов» Дениса Джонсона, действие которого происходит на западе Америки на рубеже XIX и ХХ веков; и талантливый первый роман «Свампландия!» про эксцентричную семью южан, написанный пугающе молодой писательницей Карен Расселл.
Судейская коллегия по художественной литературе, из года в год меняющая свой состав, предлагает три книги на голосование совету, состоящему из восемнадцати членов, в основном академиков и журналистов, которые сменяются каждые три года.
Жюри не определяет победителя и даже не отмечает фаворита. Жюри предоставляет совету три равноценных варианта. Члены совета могут, в случае, если они не удовлетворены выбором трех номинантов, запросить четвертую опцию. Никакого запроса так и не поступило.
Я был одним из членов судейской коллегии в 2012 году, и я писатель-романист. Двое других членов жюри того года: Морин Корриган, литературный критик из «Fresh Air», программы на NPR (National Public Radio), и профессор английского языка в Джорджтаунском университете, и Сьюзан Ларсон, бывший книжный редактор газеты Times-Picayune штата Нью-Орлеан и ведущая «The Reading Life» на NPR. (И Корриган, и Ларсон дали свое согласие на упоминание в этой статье.)
Мы трое были шокированы решением (или не-решением) совета, поскольку, в действительности, пребывали в полном восторге не только от выбранных нами книг, но и от нескольких других, остановившихся в полушаге от финала. И ни единой секунды не думали, будто с трудом наскребли три книжки, которые хоть как-то подходили для того, чтобы всучить им премию. По окончании чтения и обсуждения мы сошлись на том, что современная американская художественная литература — весьма разнообразный, изобретательный, амбициозный и (вероятно, самое важное) до сих пор актуальный, а, значит, живой вид искусства.
Несмотря на это в 2012-м премию вручать не стали.
Что же произошло?
Обсуждения совета засекречены. И никто из посторонних никогда не узнает, почему они решили отказать в присуждении премии.
Однако мне удалось несколько больше узнать о том, как формируются шорт-листы и как выбираются «лучшие» книги — этот процесс всегда оставался для меня загадкой. Как и многие другие, я зачастую испытывал недоумение после объявления лауреатов.
Серьезно? Эта книга? О чем только эти люди думали?
Могу рассказать, о чем думали эти три человека в 2012-м году.
Во-первых — возможно, это очевиднее всего — у каждого члена жюри свой вкус и мнение, и, как бы они ни старались, абсолютная объективность недостижима. Другой состав в том же году мог бы номинировать другие три книги, каждая из которых, вероятно, куда больше понравилась бы совету.
Но они могли бы запросить четвертую.
Впрочем, абсолютная объективность в оценке литературы не только невозможна, но и нежелательна. Художественная литература содержит микроэлементы магии; она работает по разным причинам: одни из них мы можем объяснить, другие — нет. Если бы романы или сборники рассказов оценивали строго исходя из компонентов (полностью раскрытые персонажи — есть; оригинальная подача — есть; уверенная структура — есть; серьезная тема — есть), то они бы удовлетворяли всем требованиям, но утратили способность зачаровывать. Великое художественное произведение подразумевает определенный фриссон, возникающий, когда различные его компоненты соединяются и воспламеняются. И причина пожара должна в некоторой степени ускользать от экспертов, направленных для расследования.
Рекомендации для отбора (по счастью, весьма лояльные) предписывают относиться к непостижимым аспектам художественной литературы с должным уважением. Победившая в номинации книга, будь то роман или сборник рассказов, должна быть написана американским автором и, в идеале, в какой-то мере отображать американский образ жизни.
Вот и всё.
В наш первый разговор (мы все живем в разных городах и лично встречались лишь единожды) в июне 2011-го Морин, Сьюзан и я пришли к некоторым соглашениям, как и, наверняка, члены жюри до нас. О том, что мы не будем отдавать предпочтение неизвестным писателям (кому бы не понравился таинственный, никем не открытый гений?) или намеренно судить известных строже. Или что будем склоняться в сторону обстоятельных, хоть и не безупречных трудов, а не искусно сложенных миниатюр. Мы предпочли исследователей-мечтателей скромным садовникам и объявили о готовности прощать определенные недостатки или чрезмерное усердие писателю, который явно пытается добиться большего, чем возможно посредством нанесения чернил на бумагу.
Вскоре после этого начали приходить книги.
Примерно три сотни — все отобраны из числа написанных за год самыми разными авторами — но приходили они частями, по тридцать за раз. Мы втроем одновременно читали один и тот же набор, хоть и не обязательно одну и ту же книгу.
Вы, наверное, не слишком удивитесь, но многие из них довольно легко было забраковать. Тривиальные, плохо написанные, жуткие, перехваленные, унылые — список можно продолжать вечно. Некоторые были прекрасны, но этого недостаточно для премии подобного масштаба.
Каждый из нас составлял список и заносил туда любую книгу, которая хотя бы на йоту казалась пригодной для номинации. Как только заканчивалось чтение партии подающих надежды, мы делились друг с другом списками «стóящих» и обсуждали, почему нам понравилась та или иная книга. Мы ничего не исключали — просто объединяли три списка и переходили к следующей тридцатке.
Кажется, будто на начальных этапах отбора большинство литературных судейских коллегий состоят в каком-то негласном сговоре. Согласиться с тем, что у одних книг нет никакого шанса, а у других есть явное преимущество, не составляет особого труда. Споры начинаются позже, когда приходит время исключать из списка финалистов весьма достойные книги.
Самым впечатляющим стал момент, когда я вытащил из третьей посылки «Бледного короля» Уоллеса. Должен признаться, никогда не был большим фанатом «Бесконечной шутки» и, открыв «Бледного короля», сразу подумал: выбор сомнительный, учитывая, что Уоллес умер, так и не закончив роман.
Так получилось, что из нас троих я первым прочитал «Бледного короля»; еще задолго до окончания чтения я позвонил Морин и Сьюзан и сказал: «Один только первый абзац книги Уоллеса куда сильнее, чем любая прочитанная нами книга целиком».
Только посмотрите, как роман начинается:
За фланелевыми равнинами, и асфальтовыми графиками, и городскими горизонтами косой ржавчины, и за табачно-коричневой рекой с рассыпанными на воде под плакучими ивами монетками солнечного света, к месту за лесополосой, где истошно шкворчат от полуденного жара невозделанные поля: сорго, марь белая, леерсия, смилакс, сыть, дурман, дикая мята, одуванчик, щетинник, мускат, шипастая капуста, золотарник, будра, канатник Теофраста, белладонна, амброзия, овсюг, вика, трава мясника, выпяченный горошек добровольцев — все легко покачиваются на утреннем ветерке, напоминающем нежную руку матери на твоей щеке1.
Морин и Сьюзан приступили к чтению и сразу согласились со мной. Как если бы мы прослушали ряд камерных произведений и оставались ими вполне довольны, пока оркестр не начал играть Бетховена. Естественно, «Бледного короля» сразу же добавили в текущий список.
Мы связывались друг с другом по телефону или электронной почте два или три раза в неделю. По мере того, как каждый из нас отстаивал свою точку зрения и прислушивался к остальным, общие предпочтения становились все очевиднее.
Морин больше привлекали писатели, которые рассказывали истории захватывающие и потрясающие в своей мощи. Она ни в коей мере не хотела видеть историю общепринятую и рассказанную так, как это заведено, — ей было необходимо, чтобы до конца книги что-то случилось: чтобы произошел сдвиг тектонических плит, был открыт новый континент нарратива или чтобы какая-то древняя повествовательная цивилизация была стерта с лица земли.
Сьюзан — решительный романтик. Она хотела влюбиться в книгу. У нее как у действительно проницательного читателя всегда были причины для привязанности, и она казалась, вероятно, самой эмоциональной из нас. Сьюзан могла влюбиться в книгу так же, как влюбляются в человека. Да, вы можете (если только попросят) предоставить целый список привлекательных качеств своего любимого: он добрый и веселый, и умный, и щедрый, и знает названия всех деревьев.
Но он больше, чем просто сочетание качеств. Вы любите его, всю его сущность целиком, которую не получится полностью объяснить даже после самого утомительного анализа его достоинств. А недостатки не заставляют вас любить его меньше. Ну и что, что у него плоховато с финансовой грамотностью, иногда он не в настроении, а по ночам храпит. Его сильные стороны настолько затмевают все прочее, что изъяны кажутся смехотворными.
Я же повернутый на языке чудак, приходящий в восторг от отдельных предложений. Многое мог простить, если в тексте ощущалась сила и красота, если история была рассказана голосом, не похожим ни на что из того, что я слышал прежде, если писатель находил новые, завораживающие способы заставить работать слова, все эти годы доступные любому американскому писателю. И всегда склонялся к отказу, если наряду с несколькими хорошими строчками обнаруживалось и достаточное количество тривиальных. Я настаивал: каждая строчка должна быть хороша. Я был тогда — и остаюсь до сих пор — слегка фанатичным в этом вопросе.
Это не значит, что кто-то из нас был непреклонен или неуступчив в отношении своих склонностей — дело, скорее, в том, что нам троим нужно было узнать об этих склонностях и позволять им просто быть, пока мы всё говорим и говорим про книги. Про какую-то книгу я мог сказать так: «Возможно, я слишком легко поддался красоте языка». Или Сьюзан могла сказать что-то вроде: «Вероятно, влюбленность меня слегка ослепила». Казалось, мы нашли полноценный способ приблизиться к относительной объективности. Мы открыто заявляли о своих склонностях. И каждый хотел, чтобы другие двое могли на что-то указать, если это необходимо.
На момент, когда мы прочли все три с лишним сотни книг, список состоял из тридцати с чем-то. И некоторые из них мы довольно быстро вычеркнули. Книгу, казавшуюся потрясающей, пока не прочитали остальные двести. Или ту, которой восхищался кто-то один из нас, хотя на двоих других она не произвела никакого впечатления.
Все разногласия (мирные, ведь мы и вправду уважали мнение друг друга) начались, когда список сократился до шести или семи кандидатов.
Каждая из книг была в некотором отношении выдающейся. И каждая вызывала сомнения у кого-то из нас троих.
Затем пришло время переключиться на судейский формат. Мы все в разной степени и по разным причинам находились в приятном волнении по поводу книг, оставшихся во все-еще-слишком-длинном списке. Мы полюбили каждого из авторов за их победу над силами банальности, приспособленчества, предсказуемости, бессодержательности, фальшивости, хаотичности, стерильности и прочими, одерживающими победу над любым, кто оказался достаточно беспечен, чтобы начать писать художественное произведение.
Однако теперь нужно было стать жестче. Руководствоваться не «А не стоит ли отметить эту книгу?», а тем, «Почему нам стоит отмечать эту книгу?»
Начался дотошный отбор.
Восхитительный, оригинальный роман убрали из списка, когда кто-то из нас указал на то, что, как бы он ни был прекрасен, Тони Моррисон уже рассказала свою версию той же самой истории с примерно таким же успехом, и это заняло в «Возлюбленной» всего одну главу.
Лично я лоббировал исключение еще одного: фразы в нем местами слишком грубы, а некоторые строчки и вовсе нехороши. В какой-то момент я сказал Морин и Сьюзан: «Пожалуйста, не заставляйте меня зачитывать дюжины вялых, лишенных жизни предложений из этой книги. Не хочу становиться человеком, который так делает». Но я настоял на том, что, пусть даже там немало хороших строк, слабых и утилитарных все же слишком много. И в этот раз повернутый на языке чудак добился своего.
Третья книга пала жертвой отсева (особенно мучительный для всех нас выбор), когда мы нехотя признали, что, несмотря на прекрасный слог и невероятную изобретательность романа, его центральная любовная линия недостаточно сложна и слегка сентиментальна, хоть и трогательна: ей не удалось отобразить суть более негативных эмоций, неотъемлемых для любви: моментов злости, разочарования, мелочности и жадности, например. Нам троим хотелось бы, чтобы любовь была настолько простой, как ее изображает автор, но мы признаем, что она, насколько мы можем судить, не только совсем не проста, но и отчасти обязана своей красотой способности преодолевать приступы злости, разочарования и так далее.
И роман вычеркнули.
Эта часть процедуры не доставляла нам ни малейшего удовольствия. Нам не нравилось отказываться от талантливо написанных произведений только потому, что автор совершил одну-единственную ошибку, оказавшуюся фатальной.
Однако литература — дело суровое.
Выбранные нами финалисты вызывали вопросы, каждый по-своему. «Бледный король», конечно, не был дописан, но так случается со многими великими произведениями. До нас дошли лишь фрагменты поэзии Сапфо. На момент смерти Чосера «Кентерберийские рассказы» были закончены чуть более, чем наполовину. И, само собой, не стоит забывать про незаконченный концерт Гайдна для струнного квартета или величественные скульптуры Микеланджело, лишь наполовину высвобожденные из мрамора.
К тому же казалось, что Пулитцер для «Бледного короля» негласно стал бы не только признанием Уоллеса, но и Майкла Питча, его редактора. Как романист я знаю, сколько всего может изменить хороший редактор, но крупных премий для редакторов не существует. Большее, на что редактор может надеяться, — упоминание на соответствующей странице, в случае если он буквально спас книгу.
Роман «Сны поездов» Дениса Джонсона написан десятью годами ранее и опубликован как длинный рассказ в The Paris Review. Однако он был потрясающе написанной, стилистически новаторской и — в своем волнующем, магическом изображении повседневной жизни на романтизированном всеми Диком Западе — совершенно американской книгой.
В ней есть такие строчки:
Мы связывались друг с другом по телефону или электронной почте два или три раза в неделю. По мере того, как каждый из нас отстаивал свою точку зрения и прислушивался к остальным, общие предпочтения становились все очевиднее.
Морин больше привлекали писатели, которые рассказывали истории захватывающие и потрясающие в своей мощи. Она ни в коей мере не хотела видеть историю общепринятую и рассказанную так, как это заведено, — ей было необходимо, чтобы до конца книги что-то случилось: чтобы произошел сдвиг тектонических плит, был открыт новый континент нарратива или чтобы какая-то древняя повествовательная цивилизация была стерта с лица земли.
Сьюзан — решительный романтик. Она хотела влюбиться в книгу. У нее как у действительно проницательного читателя всегда были причины для привязанности, и она казалась, вероятно, самой эмоциональной из нас. Сьюзан могла влюбиться в книгу так же, как влюбляются в человека. Да, вы можете (если только попросят) предоставить целый список привлекательных качеств своего любимого: он добрый и веселый, и умный, и щедрый, и знает названия всех деревьев.
Но он больше, чем просто сочетание качеств. Вы любите его, всю его сущность целиком, которую не получится полностью объяснить даже после самого утомительного анализа его достоинств. А недостатки не заставляют вас любить его меньше. Ну и что, что у него плоховато с финансовой грамотностью, иногда он не в настроении, а по ночам храпит. Его сильные стороны настолько затмевают все прочее, что изъяны кажутся смехотворными.
Я же повернутый на языке чудак, приходящий в восторг от отдельных предложений. Многое мог простить, если в тексте ощущалась сила и красота, если история была рассказана голосом, не похожим ни на что из того, что я слышал прежде, если писатель находил новые, завораживающие способы заставить работать слова, все эти годы доступные любому американскому писателю. И всегда склонялся к отказу, если наряду с несколькими хорошими строчками обнаруживалось и достаточное количество тривиальных. Я настаивал: каждая строчка должна быть хороша. Я был тогда — и остаюсь до сих пор — слегка фанатичным в этом вопросе.
Это не значит, что кто-то из нас был непреклонен или неуступчив в отношении своих склонностей — дело, скорее, в том, что нам троим нужно было узнать об этих склонностях и позволять им просто быть, пока мы всё говорим и говорим про книги. Про какую-то книгу я мог сказать так: «Возможно, я слишком легко поддался красоте языка». Или Сьюзан могла сказать что-то вроде: «Вероятно, влюбленность меня слегка ослепила». Казалось, мы нашли полноценный способ приблизиться к относительной объективности. Мы открыто заявляли о своих склонностях. И каждый хотел, чтобы другие двое могли на что-то указать, если это необходимо.
На момент, когда мы прочли все три с лишним сотни книг, список состоял из тридцати с чем-то. И некоторые из них мы довольно быстро вычеркнули. Книгу, казавшуюся потрясающей, пока не прочитали остальные двести. Или ту, которой восхищался кто-то один из нас, хотя на двоих других она не произвела никакого впечатления.
Все разногласия (мирные, ведь мы и вправду уважали мнение друг друга) начались, когда список сократился до шести или семи кандидатов.
Каждая из книг была в некотором отношении выдающейся. И каждая вызывала сомнения у кого-то из нас троих.
Затем пришло время переключиться на судейский формат. Мы все в разной степени и по разным причинам находились в приятном волнении по поводу книг, оставшихся во все-еще-слишком-длинном списке. Мы полюбили каждого из авторов за их победу над силами банальности, приспособленчества, предсказуемости, бессодержательности, фальшивости, хаотичности, стерильности и прочими, одерживающими победу над любым, кто оказался достаточно беспечен, чтобы начать писать художественное произведение.
Однако теперь нужно было стать жестче. Руководствоваться не «А не стоит ли отметить эту книгу?», а тем, «Почему нам стоит отмечать эту книгу?»
Начался дотошный отбор.
Восхитительный, оригинальный роман убрали из списка, когда кто-то из нас указал на то, что, как бы он ни был прекрасен, Тони Моррисон уже рассказала свою версию той же самой истории с примерно таким же успехом, и это заняло в «Возлюбленной» всего одну главу.
Лично я лоббировал исключение еще одного: фразы в нем местами слишком грубы, а некоторые строчки и вовсе нехороши. В какой-то момент я сказал Морин и Сьюзан: «Пожалуйста, не заставляйте меня зачитывать дюжины вялых, лишенных жизни предложений из этой книги. Не хочу становиться человеком, который так делает». Но я настоял на том, что, пусть даже там немало хороших строк, слабых и утилитарных все же слишком много. И в этот раз повернутый на языке чудак добился своего.
Третья книга пала жертвой отсева (особенно мучительный для всех нас выбор), когда мы нехотя признали, что, несмотря на прекрасный слог и невероятную изобретательность романа, его центральная любовная линия недостаточно сложна и слегка сентиментальна, хоть и трогательна: ей не удалось отобразить суть более негативных эмоций, неотъемлемых для любви: моментов злости, разочарования, мелочности и жадности, например. Нам троим хотелось бы, чтобы любовь была настолько простой, как ее изображает автор, но мы признаем, что она, насколько мы можем судить, не только совсем не проста, но и отчасти обязана своей красотой способности преодолевать приступы злости, разочарования и так далее.
И роман вычеркнули.
Эта часть процедуры не доставляла нам ни малейшего удовольствия. Нам не нравилось отказываться от талантливо написанных произведений только потому, что автор совершил одну-единственную ошибку, оказавшуюся фатальной.
Однако литература — дело суровое.
Выбранные нами финалисты вызывали вопросы, каждый по-своему. «Бледный король», конечно, не был дописан, но так случается со многими великими произведениями. До нас дошли лишь фрагменты поэзии Сапфо. На момент смерти Чосера «Кентерберийские рассказы» были закончены чуть более, чем наполовину. И, само собой, не стоит забывать про незаконченный концерт Гайдна для струнного квартета или величественные скульптуры Микеланджело, лишь наполовину высвобожденные из мрамора.
К тому же казалось, что Пулитцер для «Бледного короля» негласно стал бы не только признанием Уоллеса, но и Майкла Питча, его редактора. Как романист я знаю, сколько всего может изменить хороший редактор, но крупных премий для редакторов не существует. Большее, на что редактор может надеяться, — упоминание на соответствующей странице, в случае если он буквально спас книгу.
Роман «Сны поездов» Дениса Джонсона написан десятью годами ранее и опубликован как длинный рассказ в The Paris Review. Однако он был потрясающе написанной, стилистически новаторской и — в своем волнующем, магическом изображении повседневной жизни на романтизированном всеми Диком Западе — совершенно американской книгой.
В ней есть такие строчки:
Всю свою жизнь Роберт Грэйньер будет вспоминать выжженную долину на закате — самое невероятное зрелище из всех, что он когда-либо видел не во сне, а наяву: льдистая синева последних отблесков над головой, облака, те, что повыше, ещё белели, отражая загорный свет, под ними другие, похожие на рёбра, переливались серым и розовым, а самые нижние тёрлись о вершины гор Бассард и Квин; и под этим невиданным небом — чёрная безмолвная долина, которую пересекает поезд, невероятно шумный и всё же не способный пробудить этот сгинувший мир2.
«Сны поездов» были опубликованы как роман только в 2012-м, и это наконец-то дало книге право впервые принять участие в отборе. Мы проконсультировались по этому поводу с администратором Пулитцеровской премии. Он дал добро.
«Свампландия!» Карен Расселл — ее первый роман и, как во множестве первых романов, помимо прочих чудесных достоинств, в этом внутри повествования встречались некоторые недочеты: излишнее увлечение очаровательно странными персонажами и сцены, которые можно прописать более тонко. Была ли премия слишком уж чрезмерной реакцией на чьи-то первые серьезные шаги?
Тем не менее, это было очень похоже на дебют великого писателя, и чудеса, сокрытые в этой книге, поистине завораживающи. Пулитцеровскую премию получали и другие первые романы, среди которых «Убить пересмешника» Харпер Ли и «Сговор остолопов» Джона Кеннеди Тула. Никто не требует от автора написать идеальный роман или продемонстрировать уровень контроля, приходящий только с практикой. Мы искали, более всего прочего, оригинальности, весомости и духа — всего, чем «Свампландия!» обладала сверх меры. Вот, к примеру, воспоминание о матери рассказчика:
«Свампландия!» Карен Расселл — ее первый роман и, как во множестве первых романов, помимо прочих чудесных достоинств, в этом внутри повествования встречались некоторые недочеты: излишнее увлечение очаровательно странными персонажами и сцены, которые можно прописать более тонко. Была ли премия слишком уж чрезмерной реакцией на чьи-то первые серьезные шаги?
Тем не менее, это было очень похоже на дебют великого писателя, и чудеса, сокрытые в этой книге, поистине завораживающи. Пулитцеровскую премию получали и другие первые романы, среди которых «Убить пересмешника» Харпер Ли и «Сговор остолопов» Джона Кеннеди Тула. Никто не требует от автора написать идеальный роман или продемонстрировать уровень контроля, приходящий только с практикой. Мы искали, более всего прочего, оригинальности, весомости и духа — всего, чем «Свампландия!» обладала сверх меры. Вот, к примеру, воспоминание о матери рассказчика:
Ночи на болоте были темны и сплошь усыпаны звёздами — наш остров находился в тридцати с чем-то милях от большой земли — и хотя невооруженным глазом можно было разглядеть и Венеру, и сапфировые волосы Плеяд, тело нашей матери представляло собой лишь очертания, чёрное пятно на фоне пальм.
Когда мы пришли к соглашению по поводу трех финалистов, Сьюзан, Морин и я по телефону произнесли два тоста подряд. Первый — за финалистов, второй — за доблестных и талантливых почти-финалистов. Мы действительно сожалели, что некоторые книги пришлось исключить из списка. И были в восторге от мастерства и бесстрашия, и своеобычной красоты романов, которые номинировали.
Итак, мы представили свое решение совету и с замиранием сердца ждали объявления результатов 16 апреля.
Итак, мы представили свое решение совету и с замиранием сердца ждали объявления результатов 16 апреля.
Часть II:
Как определить величие?
Как определить величие?
Мы пребывали в ожидании Большой Книги.
Каждые несколько недель, когда на наши адреса приходила очередная посылка с книгами, Сьюзан, Морин и я вскрывали картонную коробку, молясь о том, чтобы — пожалуйста! —в ней оказался Тот Самый роман.
Тот Самый должен быть романом столь монументальным, столь оригинальным и обширным, и забавным, и трагичным, столь явно важным, что только идиот не дал бы ему Пулитцера.
Мы хотели безошибочно великую книгу, такую, насчет которой не возникло бы никаких сомнений. Или парочку таких книг. Или даже три.
Когда нас попросили стать членами судейской коллегии, мы ощутили одновременно и волнение, и радость. Любое жюри, присуждающее престижную премию, занимается попытками предсказать будущее: оно должно отметить книгу, которая выдержит проверку временем. Члены жюри пытаются (или по крайней мере должны) использовать свои особые пристрастия и проницательность, дабы уловить флер величия, исходящий от страниц. Они не просто выбирают книги, понравившиеся больше всего — они стараются подавить свои личные предубеждения, чтобы позволить книгам говорить самим за себя, а не выступать в качестве произведений, которые жюри склонно предпочитать. Не нравятся семейные саги? Что ж, не повезло, эта потрясающая, смиритесь. Считаете научную фантастику несерьезной? Не стоит думать, будто эта конкретная книга не сможет преодолеть всё, что вы определяли для себя как границы жанра.
Разумеется, члены судейской коллегии знают о том, что пытаются решить давнюю и невыполнимую задачу: назвать «лучшую» книгу, как если бы произведения были огурцами на сельскохозяйственной ярмарке. Эта идея обречена даже на самом высоком уровне. Разве «Шум и ярость» лучше «Великого Гэтсби» или наоборот? Оба романа великие. Но лучше ли один другого? Зависит от того, у кого вы спрашиваете.
Прибавьте к этому еще один факт: значительные произведения литературы не появляются на регулярной, ежегодной основе. Некоторые годы приносят необыкновенное количество плодов. В 1985-м, к примеру, мир увидел «Белый шум» Дона Делилло, «Кровавый меридиан» Кормака Маккарти, «Одинокого голубя» Ларри Макмёртри и «Стеклянный город» Пола Остера.
Итак. На дворе 1985-й год, вы в жюри Пулитцеровской премии. Какая же из этих книг явно лучше остальных трех?
В том году премию получил «Одинокий голубь», и я с этим выбором спорить не стану. Но остальные три не победили в этой гонке. Не могли победить. Совет Пулитцеровской премии обязан выбрать лишь одну книгу и признать ее лучшей.
И, в конце концов, приходится сталкиваться с самым нервирующим из всех обязанностей жюри и советов аспектом: люди, номинирующие на премии и эти премии присуждающие, ошибаются по меньшей мере так же часто, как оказываются правы. Рассмотрим, к примеру, следующий факт: Перл Бак отправилась в могилу с Нобелевской премией, а Набоков — нет. Дарио Фо тоже получил ее, а Борхес — нет. Список лауреатов Нобелевской премии внушителен — эти шведские вручители наград весьма умны — но список не победивших вызывает удивление и не особенно обнадеживает.
Среди прочих не получивших Пулитцеровскую премию (учрежденную в 1917-м): «Великий Гэтсби», «И восходит солнце», «Шум и ярость», «Авессалом, Авессалом!», «Над пропастью во ржи», «Человек-невидимка», «Приключения Оги Марча», «В дороге», «Поправка-22», «Киноман», «Дорога перемен», «Бойня номер пять», «Избавление», полное собрание рассказов Фланнери О'Коннор, «Рэгтайм», «Джей Ар», сборник рассказов Грейс Пейли и «Изнанка мира».
Стоит отметить, список лауреатов прошедших лет также включает в себя множество действительно важных и бессмертных произведений. Тем не менее. Пусть это и кажется недостойным — называть лучшими посредственные книги, одержавшие победу над закрепившими за собой статус классики, найдите список, если вдруг захочется. В нем много неожиданного. Но правда еще и в том, что некоторые авторы всех великих но не выбранных произведений в конце концов получили премию, хотя многие из нас согласились бы: это присуждение слегка походило на компенсацию за прошлое, если только мы не верим в то, что «Старик и море» Хемингуэя (получивший премию в 1953) может затмить «И восходит солнце» или «Прощай, оружие!» или что «Притча» (1955) и «Похитители» (1963) Фолкнера (только Фолкнер, Бут Таркингтон и Джон Апдайк становились лауреатами премии дважды) могли бы оставить «Шум и ярость» или «Авессалом, Авессалом!» пылиться на задворках истории.
Совет Пулитцеровской премии уже девять раз отказывал во вручении премии в номинации «Художественная литература». Последний был в 1977-м, когда одним из кандидатов стал роман «Там, где течет река» Нормана Маклина. Никому не присудили премию в 1974-м, хотя «Радуга тяготения» отвечала всем требованиям.
Крайне недальновидно. И оскорбительно. Но все же…
По мере того, как Морин, Сьюзан и я открывали коробку за коробкой, книгу за книгой, находилось значительное количество тех, которые нам очень нравились, а среди них — несколько, в которых таилось какое-то особое сокровище: отличный персонаж, внушительный и оригинальный стиль, необыкновенная тема, несколько отрывков, от которых по рукам бежали мурашки, или какое-то другое поразительное открытие.
Но ни одна из книг не была неоспоримым кандидатом, ни одна не была настолько безукоризненно и очевидно великой, чтобы рассеять все наши сомнения. Периодически сомневаться — задача, порученная жюри. Взвешивать и задавать вопросы, думать о балансе между достоинствами и упущениями.
Мы не вели себя как простаки, моралисты или педанты — по крайней мере мне хочется в это верить. И не стремились сделать выбор в пользу пусть даже и не особо интересного, зато безопасного варианта. Мы были в поиске нового «Великого Гэтсби», «Шума и ярости» 2012-го года, книги, которая могла бы смело стоять в одном ряду с «Человеком-невидимкой».
Так вот, чисто гипотетически, давайте представим, что члены жюри Пулитцеровской премии и совета прошлых лет тоже, вероятно, не слыли простаками, моралистами или педантами. Включая даже тех, кто не выбрал «Великого Гэтсби», «Шум и ярость» или «Человека-невидимку». И тех, кто в 1974-м решил, будто премию лучше вовсе не присуждать, чем отметить ею «Радугу тяготения».
Легко отнести прошлые недосмотры на счет воображаемой кучки трусливых и близоруких (нетрудно представить их образ: они неброско и сдержанно одеты, глаза их похожи на совиные, они чопорны, самодовольны и говорят друг с другом с тщательно отрепетированным в частных школах акцентом). Само собой, в литературном пространстве существуют трусливые и близорукие. И иногда процветают.
Куда интереснее, однако, думать о том, насколько неуловимым может быть величие, пока история не вынесет свой вердикт, даже для тех, кому чужды и чопорность, и самодовольство.
Среди печально известных в свое время провалов (как у критики, так и у публики) был, вне всякого сомнения, «Моби Дик» (опубликованный еще до того, как Пулитцеровскую премию учредили). «Великий Гэтсби» и «Шум и ярость» разбились, подобно Икару, сразу после публикации. Журнал Time назвал «В дороге» «варварским горлодранством, а не книгой». The New Yorker заявили, что «Поправка-22» — «свалка несмешных мрачных шуток».
И пока мы, члены жюри, продолжали находить книги, которые нам нравились, но Тот Самый, Великий Недосягаемый роман, упорно не хотел попадаться, должен сознаться, что я хотел не только распознать гения, но и не остаться в истории одним из тех, кому не удалось его распознать. Человеком, пропустившим северное сияние, играя со своей болонкой; кем-то, кто оказался неспособным выглянуть за рамки своих читательских грешков и предубеждений или откровенной ограниченности.
Непрекращающееся состояние беспокойства не облегчалось пониманием того, что новая великая книга, более или менее подходящая под определение, практически ничем не напоминает великие книги прошлого. Легче не становилось и от моего подозрения, будто многие давно забытые критики и вручители наград, уничтожившие «Моби Дика» или не удостоившие своим вниманием «Шум и ярость» не сумели понять: будущее не имеет ничего против настойчивости Мелвилла относительно не самых коротких глав, посвященных китобойному промыслу, или против приверженности Фолкнера лексикону, одновременно и неоднозначному, и непостижимому, временами лишь отдаленно напоминающему язык, на котором каждый из нас с относительным успехом говорил с детства.
Отчасти это вопрос того, на что будущие поколения закроют глаза, а на что — нет. Фатальный изъян для одной эпохи, но поразительное проявление творческой смелости — для другой. Кого волнует, что Генри Джеймсу платили за каждого слово, отчего он и писал произведения крайне спорной длины? Кого, раз уж на то пошло, волнует, что Маркони нашел способ приема и передачи радиосигнала, хотя изначально искал способ улавливать голоса мертвых?
И, наконец, перед нами встал вопрос о меняющемся восприятии. Когда Морин, Сьюзан и я говорили о Большой Книге, то воспринимали это почти буквально: если не больше пятисот страниц, то она должна быть грандиозна в своем масштабе и обширна в диапазоне затрагиваемых тем.
Просматривая коробки в поисках Того Самого, я обнаружил, что все чаще и чаще переключаюсь мыслями на импрессионистов. И задумался над тем, как на протяжении нескольких веков «серьезные» картины обходили стороной крупные исторические и религиозные темы, которые обычно предполагали наличие как минимум двух дюжин людей с выражениями лиц и языком тела, выдающими эмоции в диапазоне от отчаяния до блаженного экстаза; пейзажа; одного или двух коней; символических облачений; символических жестов и (необязательно, но рекомендуется) различных святых и ангелов, одобряющих или негодующих, среди светящихся куч облаков.
А потом, всего лишь миг спустя в рамках нашей истории, «серьезной» картиной мог бы стать стог сена Моне. Или написанный Сезанном портрет фермера в рабочей одежде. Или пустое поле Ван Гога под таким же пустым небом.
Импрессионисты не кажутся нам (или по крайней мере мне) менее значимыми художниками лишь оттого, что их работа внешне выглядела куда скромнее. Но, проходя по Метрополитен-музею, спешу ли я сразу к картинам Тинторетто и Делакруа, даже не взглянув на Моне, Сезанна и Ван Гога? Конечно, нет. Я одинаково счастлив увидеть все полотна, но картины Моне, Сезанна и Ван Гога не выглядят маленькими по сравнению с теми Тинторетто и Делакруа. Они велики в другом смысле.
Равно как «Великий Гэтсби» и «Шум и ярость». Как «В дороге» и «Поправка-22».
Поиск значимого произведения, бессмертной книги — по большому счету лотерея, и, как это бывает со всеми азартными играми, шансов на победу всегда больше у заведения, чем у игрока. Мне нравится думать, что история отстоит все номинированные нами романы и кто-то вроде меня будет так же потрясен, узнав, что «Бледного короля», «Сны поездов» и «Свампландию!» в 2012-м даже не удостоили внимания. Однако нет никакого способа узнать. Будущие поколения с таким же успехом могут обвинить нас в том, что мы не номинировали книгу, которую сразу вычеркнули, посчитав банальной, вторичной или чересчур сентиментальной.
Возможно, это и есть одна из причин, почему мы так любим современную художественную литературу. Мы с ней наедине. К ней нет никакого сопровождения, рекомендаций, которым можно доверять. Присуждающие премии (не говоря уже о критиках) делают все возможное, но внуки и правнуки, вероятно, — скорее всего — будут над ними насмехаться. Мы, ныне живущие читатели, независимо от того, являемся ли мы членами жюри или нет, сами для себя решаем, находимся ли мы сейчас в присутствии величия. Мы вынуждены позволить следующим поколениям принимать окончательные решения, которые будут, по всей вероятности, казаться им довольно очевидными и вызывать недоумение по поводу того, что их предки ценили превыше всего: что награждали, что ставили в пример, что несли в храм на плечах мудрецов.
Литературная премия — в лучшем случае просто еще один способ привлечения аудитории для книги, заслуживающей куда более пристального внимания, чем она получила бы без наград. Ошибочно сложившееся мнение не отменяет шанса раз в год во всеуслышание заявить: «Вам действительно стоит это прочесть».
Вот почему решение комитета вовсе не присуждать премию было настолько досадным. Американского писателя никогда не брали в расчет и всегда недооценивали. Читателей лишили того, что могло стать великим литературным открытием или позволило бы им получить искреннее, пусть и с привкусом горечи, удовлетворение от возможности произнести: «Серьезно? Эта книга? О чем только думали эти люди?»
Каждые несколько недель, когда на наши адреса приходила очередная посылка с книгами, Сьюзан, Морин и я вскрывали картонную коробку, молясь о том, чтобы — пожалуйста! —в ней оказался Тот Самый роман.
Тот Самый должен быть романом столь монументальным, столь оригинальным и обширным, и забавным, и трагичным, столь явно важным, что только идиот не дал бы ему Пулитцера.
Мы хотели безошибочно великую книгу, такую, насчет которой не возникло бы никаких сомнений. Или парочку таких книг. Или даже три.
Когда нас попросили стать членами судейской коллегии, мы ощутили одновременно и волнение, и радость. Любое жюри, присуждающее престижную премию, занимается попытками предсказать будущее: оно должно отметить книгу, которая выдержит проверку временем. Члены жюри пытаются (или по крайней мере должны) использовать свои особые пристрастия и проницательность, дабы уловить флер величия, исходящий от страниц. Они не просто выбирают книги, понравившиеся больше всего — они стараются подавить свои личные предубеждения, чтобы позволить книгам говорить самим за себя, а не выступать в качестве произведений, которые жюри склонно предпочитать. Не нравятся семейные саги? Что ж, не повезло, эта потрясающая, смиритесь. Считаете научную фантастику несерьезной? Не стоит думать, будто эта конкретная книга не сможет преодолеть всё, что вы определяли для себя как границы жанра.
Разумеется, члены судейской коллегии знают о том, что пытаются решить давнюю и невыполнимую задачу: назвать «лучшую» книгу, как если бы произведения были огурцами на сельскохозяйственной ярмарке. Эта идея обречена даже на самом высоком уровне. Разве «Шум и ярость» лучше «Великого Гэтсби» или наоборот? Оба романа великие. Но лучше ли один другого? Зависит от того, у кого вы спрашиваете.
Прибавьте к этому еще один факт: значительные произведения литературы не появляются на регулярной, ежегодной основе. Некоторые годы приносят необыкновенное количество плодов. В 1985-м, к примеру, мир увидел «Белый шум» Дона Делилло, «Кровавый меридиан» Кормака Маккарти, «Одинокого голубя» Ларри Макмёртри и «Стеклянный город» Пола Остера.
Итак. На дворе 1985-й год, вы в жюри Пулитцеровской премии. Какая же из этих книг явно лучше остальных трех?
В том году премию получил «Одинокий голубь», и я с этим выбором спорить не стану. Но остальные три не победили в этой гонке. Не могли победить. Совет Пулитцеровской премии обязан выбрать лишь одну книгу и признать ее лучшей.
И, в конце концов, приходится сталкиваться с самым нервирующим из всех обязанностей жюри и советов аспектом: люди, номинирующие на премии и эти премии присуждающие, ошибаются по меньшей мере так же часто, как оказываются правы. Рассмотрим, к примеру, следующий факт: Перл Бак отправилась в могилу с Нобелевской премией, а Набоков — нет. Дарио Фо тоже получил ее, а Борхес — нет. Список лауреатов Нобелевской премии внушителен — эти шведские вручители наград весьма умны — но список не победивших вызывает удивление и не особенно обнадеживает.
Среди прочих не получивших Пулитцеровскую премию (учрежденную в 1917-м): «Великий Гэтсби», «И восходит солнце», «Шум и ярость», «Авессалом, Авессалом!», «Над пропастью во ржи», «Человек-невидимка», «Приключения Оги Марча», «В дороге», «Поправка-22», «Киноман», «Дорога перемен», «Бойня номер пять», «Избавление», полное собрание рассказов Фланнери О'Коннор, «Рэгтайм», «Джей Ар», сборник рассказов Грейс Пейли и «Изнанка мира».
Стоит отметить, список лауреатов прошедших лет также включает в себя множество действительно важных и бессмертных произведений. Тем не менее. Пусть это и кажется недостойным — называть лучшими посредственные книги, одержавшие победу над закрепившими за собой статус классики, найдите список, если вдруг захочется. В нем много неожиданного. Но правда еще и в том, что некоторые авторы всех великих но не выбранных произведений в конце концов получили премию, хотя многие из нас согласились бы: это присуждение слегка походило на компенсацию за прошлое, если только мы не верим в то, что «Старик и море» Хемингуэя (получивший премию в 1953) может затмить «И восходит солнце» или «Прощай, оружие!» или что «Притча» (1955) и «Похитители» (1963) Фолкнера (только Фолкнер, Бут Таркингтон и Джон Апдайк становились лауреатами премии дважды) могли бы оставить «Шум и ярость» или «Авессалом, Авессалом!» пылиться на задворках истории.
Совет Пулитцеровской премии уже девять раз отказывал во вручении премии в номинации «Художественная литература». Последний был в 1977-м, когда одним из кандидатов стал роман «Там, где течет река» Нормана Маклина. Никому не присудили премию в 1974-м, хотя «Радуга тяготения» отвечала всем требованиям.
Крайне недальновидно. И оскорбительно. Но все же…
По мере того, как Морин, Сьюзан и я открывали коробку за коробкой, книгу за книгой, находилось значительное количество тех, которые нам очень нравились, а среди них — несколько, в которых таилось какое-то особое сокровище: отличный персонаж, внушительный и оригинальный стиль, необыкновенная тема, несколько отрывков, от которых по рукам бежали мурашки, или какое-то другое поразительное открытие.
Но ни одна из книг не была неоспоримым кандидатом, ни одна не была настолько безукоризненно и очевидно великой, чтобы рассеять все наши сомнения. Периодически сомневаться — задача, порученная жюри. Взвешивать и задавать вопросы, думать о балансе между достоинствами и упущениями.
Мы не вели себя как простаки, моралисты или педанты — по крайней мере мне хочется в это верить. И не стремились сделать выбор в пользу пусть даже и не особо интересного, зато безопасного варианта. Мы были в поиске нового «Великого Гэтсби», «Шума и ярости» 2012-го года, книги, которая могла бы смело стоять в одном ряду с «Человеком-невидимкой».
Так вот, чисто гипотетически, давайте представим, что члены жюри Пулитцеровской премии и совета прошлых лет тоже, вероятно, не слыли простаками, моралистами или педантами. Включая даже тех, кто не выбрал «Великого Гэтсби», «Шум и ярость» или «Человека-невидимку». И тех, кто в 1974-м решил, будто премию лучше вовсе не присуждать, чем отметить ею «Радугу тяготения».
Легко отнести прошлые недосмотры на счет воображаемой кучки трусливых и близоруких (нетрудно представить их образ: они неброско и сдержанно одеты, глаза их похожи на совиные, они чопорны, самодовольны и говорят друг с другом с тщательно отрепетированным в частных школах акцентом). Само собой, в литературном пространстве существуют трусливые и близорукие. И иногда процветают.
Куда интереснее, однако, думать о том, насколько неуловимым может быть величие, пока история не вынесет свой вердикт, даже для тех, кому чужды и чопорность, и самодовольство.
Среди печально известных в свое время провалов (как у критики, так и у публики) был, вне всякого сомнения, «Моби Дик» (опубликованный еще до того, как Пулитцеровскую премию учредили). «Великий Гэтсби» и «Шум и ярость» разбились, подобно Икару, сразу после публикации. Журнал Time назвал «В дороге» «варварским горлодранством, а не книгой». The New Yorker заявили, что «Поправка-22» — «свалка несмешных мрачных шуток».
И пока мы, члены жюри, продолжали находить книги, которые нам нравились, но Тот Самый, Великий Недосягаемый роман, упорно не хотел попадаться, должен сознаться, что я хотел не только распознать гения, но и не остаться в истории одним из тех, кому не удалось его распознать. Человеком, пропустившим северное сияние, играя со своей болонкой; кем-то, кто оказался неспособным выглянуть за рамки своих читательских грешков и предубеждений или откровенной ограниченности.
Непрекращающееся состояние беспокойства не облегчалось пониманием того, что новая великая книга, более или менее подходящая под определение, практически ничем не напоминает великие книги прошлого. Легче не становилось и от моего подозрения, будто многие давно забытые критики и вручители наград, уничтожившие «Моби Дика» или не удостоившие своим вниманием «Шум и ярость» не сумели понять: будущее не имеет ничего против настойчивости Мелвилла относительно не самых коротких глав, посвященных китобойному промыслу, или против приверженности Фолкнера лексикону, одновременно и неоднозначному, и непостижимому, временами лишь отдаленно напоминающему язык, на котором каждый из нас с относительным успехом говорил с детства.
Отчасти это вопрос того, на что будущие поколения закроют глаза, а на что — нет. Фатальный изъян для одной эпохи, но поразительное проявление творческой смелости — для другой. Кого волнует, что Генри Джеймсу платили за каждого слово, отчего он и писал произведения крайне спорной длины? Кого, раз уж на то пошло, волнует, что Маркони нашел способ приема и передачи радиосигнала, хотя изначально искал способ улавливать голоса мертвых?
И, наконец, перед нами встал вопрос о меняющемся восприятии. Когда Морин, Сьюзан и я говорили о Большой Книге, то воспринимали это почти буквально: если не больше пятисот страниц, то она должна быть грандиозна в своем масштабе и обширна в диапазоне затрагиваемых тем.
Просматривая коробки в поисках Того Самого, я обнаружил, что все чаще и чаще переключаюсь мыслями на импрессионистов. И задумался над тем, как на протяжении нескольких веков «серьезные» картины обходили стороной крупные исторические и религиозные темы, которые обычно предполагали наличие как минимум двух дюжин людей с выражениями лиц и языком тела, выдающими эмоции в диапазоне от отчаяния до блаженного экстаза; пейзажа; одного или двух коней; символических облачений; символических жестов и (необязательно, но рекомендуется) различных святых и ангелов, одобряющих или негодующих, среди светящихся куч облаков.
А потом, всего лишь миг спустя в рамках нашей истории, «серьезной» картиной мог бы стать стог сена Моне. Или написанный Сезанном портрет фермера в рабочей одежде. Или пустое поле Ван Гога под таким же пустым небом.
Импрессионисты не кажутся нам (или по крайней мере мне) менее значимыми художниками лишь оттого, что их работа внешне выглядела куда скромнее. Но, проходя по Метрополитен-музею, спешу ли я сразу к картинам Тинторетто и Делакруа, даже не взглянув на Моне, Сезанна и Ван Гога? Конечно, нет. Я одинаково счастлив увидеть все полотна, но картины Моне, Сезанна и Ван Гога не выглядят маленькими по сравнению с теми Тинторетто и Делакруа. Они велики в другом смысле.
Равно как «Великий Гэтсби» и «Шум и ярость». Как «В дороге» и «Поправка-22».
Поиск значимого произведения, бессмертной книги — по большому счету лотерея, и, как это бывает со всеми азартными играми, шансов на победу всегда больше у заведения, чем у игрока. Мне нравится думать, что история отстоит все номинированные нами романы и кто-то вроде меня будет так же потрясен, узнав, что «Бледного короля», «Сны поездов» и «Свампландию!» в 2012-м даже не удостоили внимания. Однако нет никакого способа узнать. Будущие поколения с таким же успехом могут обвинить нас в том, что мы не номинировали книгу, которую сразу вычеркнули, посчитав банальной, вторичной или чересчур сентиментальной.
Возможно, это и есть одна из причин, почему мы так любим современную художественную литературу. Мы с ней наедине. К ней нет никакого сопровождения, рекомендаций, которым можно доверять. Присуждающие премии (не говоря уже о критиках) делают все возможное, но внуки и правнуки, вероятно, — скорее всего — будут над ними насмехаться. Мы, ныне живущие читатели, независимо от того, являемся ли мы членами жюри или нет, сами для себя решаем, находимся ли мы сейчас в присутствии величия. Мы вынуждены позволить следующим поколениям принимать окончательные решения, которые будут, по всей вероятности, казаться им довольно очевидными и вызывать недоумение по поводу того, что их предки ценили превыше всего: что награждали, что ставили в пример, что несли в храм на плечах мудрецов.
Литературная премия — в лучшем случае просто еще один способ привлечения аудитории для книги, заслуживающей куда более пристального внимания, чем она получила бы без наград. Ошибочно сложившееся мнение не отменяет шанса раз в год во всеуслышание заявить: «Вам действительно стоит это прочесть».
Вот почему решение комитета вовсе не присуждать премию было настолько досадным. Американского писателя никогда не брали в расчет и всегда недооценивали. Читателей лишили того, что могло стать великим литературным открытием или позволило бы им получить искреннее, пусть и с привкусом горечи, удовлетворение от возможности произнести: «Серьезно? Эта книга? О чем только думали эти люди?»


