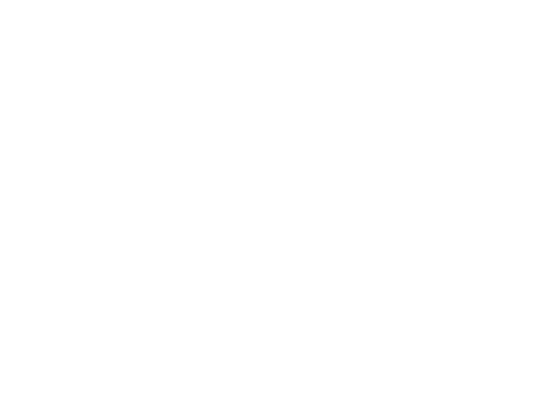Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Рай земной (лат.)
Глас вопиющего в пустыне (лат.)
Отрицательный персонаж романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома, или Жизнь среди низших», рабовладелец и садист.
«Женщина меня просит [объяснить, что такое любовь]» (ит.) — название знаменитой канцоны Гвидо Кавальканти, написанной ок. 1300 г.
Ройвас (Roivas) — один из персонажей романа с именем-анаграммой (savior, спаситель), как, например, и Гален (Galen — angel).
Ройвас (Roivas) — один из персонажей романа с именем-анаграммой (savior, спаситель), как, например, и Гален (Galen — angel).
Опубликовано в What Shall We Do Without Us? (Sierra Club Books, 1984)
Вспоминая Кеннета Пэтчена
Автор Джеймс Локлин
перевод Филиппа Лила
редактор Стас Кин
перевод Филиппа Лила
редактор Стас Кин
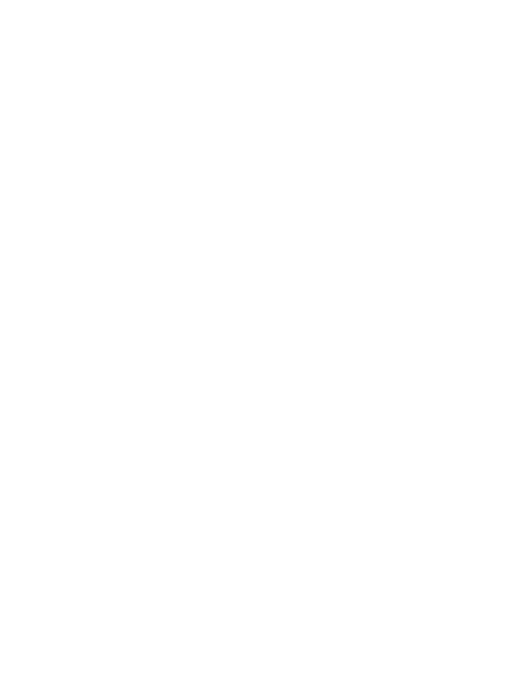
Иногда странно, что именно сохраняет память. Где те куски, которые монтажер вырезал и бросил на пол в монтажной? Думаю, я знал Кеннета Пэтчена около тридцати трех лет. Это если судить по старым письмам; дневников я никогда не вел. И те сцены с Мириам и Кеннетом, что сохранились в памяти, не выстроены в повествовательную последовательность. Они скачут во времени, словно мерцающая черно-белая кинопленка. Звука почти нет, хотя я слышу глубокий, нарочито медленный голос Кеннета и переливчатый смех Мириам. Наверняка именно смех Мириам поддерживал Кеннета в те годы агонии, когда боль в спине была постоянной и эта боль сокрушала его дух.
Первая сцена показывает Пэтчена и его юную жену Мириам на ферме Ойкемусов близ Конкорда, штат Массачусетс. Должно быть, это 1938 год. Я переписывался с Кеннетом уже больше года, так как был впечатлен его первой книгой стихов «Перед храбрыми» (Before the Brave), которую издательство Random House выпустило в 1936 году. Автор текста на обложке, попавший в самую точку, говорил о «социальных и революционных принципах» Пэтчена и о том, что он «презирает приемы своих поэтических предшественников и ищет через экспериментирование новые и более динамичные формы стиха». Книга не совсем в духе Беннета Серфа, но определенно в моем. Так что я был счастлив, когда Random House отпустили его, и он подписал контракт с New Directions. Его первой книгой у нас стала «Первое завещание» (First Will and Testament) в 1939 году.
Но вернемся на ферму. Я заметил, в каком идеальном порядке Ойкемусы содержали свое хозяйство. Если края этой мысленной фотографии не в фокусе, то центр — четок. Мириам была — и есть — больше, чем просто хорошенькая. В ней есть свет изнутри, сияние озаренного сердца. А Кеннет, до того как болезнь разрушила его, был красивым мужчиной. Глаза мягкие, но в его взгляде — интенсивность. Он всегда смотрел на людей, а не мимо них. Он смотрел мне в душу, и иногда мне было страшно подумать, что он мог там увидеть. Мириам рассказывала мне, что ее родители, выходцы из Финляндии, были социалистами. Одной из причин моего приезда в Конкорд можно назвать желание в этом разобраться; я планировал попросить Пэтченов приехать и управлять офисом New Directions в Норфолке. Он располагался в семейном поместье, где царила та чудесная, уцелевшая свидетельница ушедшей эпохи, моя тетя Лейла. Она была дамой бесконечно добрых дел, но ее социальные и политические взгляды были несколько отсталыми. Как только я встретил Пэтченов и Ойкемусов, я понял, что проблем не будет. Они не были «красными». Они были отличными людьми, хорошими людьми; они были пацифистами.
Я всегда подозревал, что социальная осознанность Пэтчена и сила его протеста отчасти пришли от Ойкемусов. Насколько мне известно, он никогда не называл себя социалистом, и я уверен, что он никогда не вступал в ряды коммунистов, хотя в его молодые годы их было много вокруг, и он мог их знать; думаю, он одинаково не доверял партиям как левого, так и правого толка. Но забота о социальной справедливости была одним из сильнейших побуждений в его жизни и одной из главенствующих тем его поэзии, и некоторые свои ранние работы он отправлял в левые журналы.
Мы слышали о том, что мы «под Богом», от отцов-основателей, и наши политики до сих пор любят твердить эту фразу. Пэтчен действительно ходил «под Богом». Он хотел собрать нас всех под Божье крыло.
Но вернемся на ферму. Я заметил, в каком идеальном порядке Ойкемусы содержали свое хозяйство. Если края этой мысленной фотографии не в фокусе, то центр — четок. Мириам была — и есть — больше, чем просто хорошенькая. В ней есть свет изнутри, сияние озаренного сердца. А Кеннет, до того как болезнь разрушила его, был красивым мужчиной. Глаза мягкие, но в его взгляде — интенсивность. Он всегда смотрел на людей, а не мимо них. Он смотрел мне в душу, и иногда мне было страшно подумать, что он мог там увидеть. Мириам рассказывала мне, что ее родители, выходцы из Финляндии, были социалистами. Одной из причин моего приезда в Конкорд можно назвать желание в этом разобраться; я планировал попросить Пэтченов приехать и управлять офисом New Directions в Норфолке. Он располагался в семейном поместье, где царила та чудесная, уцелевшая свидетельница ушедшей эпохи, моя тетя Лейла. Она была дамой бесконечно добрых дел, но ее социальные и политические взгляды были несколько отсталыми. Как только я встретил Пэтченов и Ойкемусов, я понял, что проблем не будет. Они не были «красными». Они были отличными людьми, хорошими людьми; они были пацифистами.
Я всегда подозревал, что социальная осознанность Пэтчена и сила его протеста отчасти пришли от Ойкемусов. Насколько мне известно, он никогда не называл себя социалистом, и я уверен, что он никогда не вступал в ряды коммунистов, хотя в его молодые годы их было много вокруг, и он мог их знать; думаю, он одинаково не доверял партиям как левого, так и правого толка. Но забота о социальной справедливости была одним из сильнейших побуждений в его жизни и одной из главенствующих тем его поэзии, и некоторые свои ранние работы он отправлял в левые журналы.
Мы слышали о том, что мы «под Богом», от отцов-основателей, и наши политики до сих пор любят твердить эту фразу. Пэтчен действительно ходил «под Богом». Он хотел собрать нас всех под Божье крыло.
Я расскажу вам историю о
Встрече моей матери с Богом.
. . .
Она поднялась туда, где вершина мира
И Он подошёл прямо к ней и сказал
Ну вот, наконец-то ты вернулась домой.
. . .
Моя мать заплакала, и Бог
Обнял её.
. . .
Она сказала, это было словно туман, опустившийся на лицо
И повсюду был свет, и мягкий голос произнёс
Теперь ты можешь не плакать.
«Знают ли мёртвые, который час?»
Встрече моей матери с Богом.
. . .
Она поднялась туда, где вершина мира
И Он подошёл прямо к ней и сказал
Ну вот, наконец-то ты вернулась домой.
. . .
Моя мать заплакала, и Бог
Обнял её.
. . .
Она сказала, это было словно туман, опустившийся на лицо
И повсюду был свет, и мягкий голос произнёс
Теперь ты можешь не плакать.
«Знают ли мёртвые, который час?»
Зачастую представление Пэтчена о Боге сливается с темой пацифизма. Он стал бы отказником по убеждениям совести, если бы не его спина. Он постоянно высказывался против войны, и, возможно, именно это, больше чем что-либо другое в его творчестве, сделало его таким героем для молодежи. Тема пацифизма иногда выражается через идентификацию Пэтчена с животными:
Потому что снег глубок
Без единого пятнышка это белое падение сквозь белый воздух
Потому что она немного хромает — кровоточит
Там, куда они подстрелили её
Потому что у охотников есть ружья
А у собак ноги палачей
Потому что я хотел бы взять её на руки
И перевязать её рану
Потому что она не может позволить себе умереть
Убивая детёнышей в своём чреве
Я не знаю, что сказать о смерти солдата
Потому что в смерти нет пропорций.
«Лиса»
Без единого пятнышка это белое падение сквозь белый воздух
Потому что она немного хромает — кровоточит
Там, куда они подстрелили её
Потому что у охотников есть ружья
А у собак ноги палачей
Потому что я хотел бы взять её на руки
И перевязать её рану
Потому что она не может позволить себе умереть
Убивая детёнышей в своём чреве
Я не знаю, что сказать о смерти солдата
Потому что в смерти нет пропорций.
«Лиса»
Каким был Бог Пэтчена? Вероятно, не христианским Богом, хотя многие каденции и отсылки в его поэзии показывают, что он внимательно читал Библию короля Якова. Возможно, его Бог был Существом, которое он создал, чтобы получить ответ, необходимый ему в битве за спасение мира. Полагаю, только невинные или глупцы воображают, что могут спасти мир. И поэты, эти невинные, часто пытаются. Паунд, при всех его ошибках, отчасти хотел, чтобы «Кантос» помогли реформировать экономическую систему. Он мечтал о paradiso terrestre1. Одной из доминирующих тем в «Патерсоне» Уильямса является новый, «искупающий язык», и ясно, что он надеялся: последствия этого языка, если бы он смог его воплотить, были бы социальными в той же мере, что и поэтическими. От своего кумира, Уильяма Блейка, Пэтчен перенял собственную концепцию пророческой поэзии. Он писал стихи не для развлечения; у него было послание. И, к счастью, он не был vox clamantis in deserto2. На протяжении, возможно, пятнадцати лет он, наряду с Генри Миллером, был одним из самых популярных американских писателей среди молодежи в Америке.
Религия и политика. В творчестве Пэтчена они идут рука об руку. Его этика — братство. «Поступай с другими так, как...» — и если мы все сплотимся, мы сможем спасти себя и нашу прекрасную землю. Его Бог — это духовная сила, способная принести paradiso terrestre. О братстве он писал:
Религия и политика. В творчестве Пэтчена они идут рука об руку. Его этика — братство. «Поступай с другими так, как...» — и если мы все сплотимся, мы сможем спасти себя и нашу прекрасную землю. Его Бог — это духовная сила, способная принести paradiso terrestre. О братстве он писал:
Ищейки похожи на печальных старых судей
В странном суде. Они нацеливают носы
На негра, дёргающегося в их петле;
Его ступни растопырены, как у вороны, над этими
Почтенными людьми, которые смеются, пока он задыхается.
Я не знаю этого чёрного человека.
Я не знаю этих белых людей.
Но я знаю, что одна из моих рук —
Чёрная, а другая — белая. Я знаю, что
Одну часть меня душат,
Пока другая часть ужасающе смеётся.
Пока это не изменится, я буду вечно убивать; и буду убиваемым.
«Прекрасный день для линчевания»
В странном суде. Они нацеливают носы
На негра, дёргающегося в их петле;
Его ступни растопырены, как у вороны, над этими
Почтенными людьми, которые смеются, пока он задыхается.
Я не знаю этого чёрного человека.
Я не знаю этих белых людей.
Но я знаю, что одна из моих рук —
Чёрная, а другая — белая. Я знаю, что
Одну часть меня душат,
Пока другая часть ужасающе смеётся.
Пока это не изменится, я буду вечно убивать; и буду убиваемым.
«Прекрасный день для линчевания»
Благодаря хронологии в превосходной критической книге Ларри Р. Смита о Пэтчене, вышедшей в серии «Писатели Соединенных Штатов» издательства Twayne, можно отмотать нашу кинопленку назад. Пэтчен родился в Найлсе, штат Огайо, в 1911 году, где его отец работал сталеваром в компании Youngstown Sheet & Tube. В 1915 году семья переехала в Уоррен, где находился еще один завод Янгстауна, и там Кеннет вырос. Его мать была католичкой и хотела, чтобы он стал священником. В стихах он говорит об отце с уважительной привязанностью:
Когда мне было пять лет, отец очень сильно
Покалечился на заводе; его внесли
Через кухню нашего дома — двое мужчин у головы,
двое в ногах — и потащили наверх.
«Анна Каренина и влюблённая река»
Покалечился на заводе; его внесли
Через кухню нашего дома — двое мужчин у головы,
двое в ногах — и потащили наверх.
«Анна Каренина и влюблённая река»
Но в замечательном и, как мне кажется, автобиографическом рассказе «Похороните их в Боге» (Bury Them in God), который появился в антологии New Directions 1939 года (и был перепечатан в книге 1972 года «В поисках зажигателей свечей» (In Quest of Candlelighters)), мы видим, что между отцом и сыном существовала проблема взаимопонимания. Любимая младшая сестра рассказчика только что умерла, и он пишет:
Мой отец входит в кухню с бодростью человека, ожидающего великих событий... «Когда она умерла?»
Я не могу ответить. Я хочу бить его кулаками. Ты грязное, дешёвое чудовище с потным носом... Норин мертва! Неужели тебе всё равно? «Когда она умерла?» — так же спокойно, как «Ужин готов?». Я вижу его во главе стола, издающего губами жирные звуки, пока он жадно глотает лучшие куски мяса...
Я не могу ответить. Я хочу бить его кулаками. Ты грязное, дешёвое чудовище с потным носом... Норин мертва! Неужели тебе всё равно? «Когда она умерла?» — так же спокойно, как «Ужин готов?». Я вижу его во главе стола, издающего губами жирные звуки, пока он жадно глотает лучшие куски мяса...
Рассказ «Похороните их в Боге», который, похоже, ускользнул от внимания большинства пишущих о Пэтчене, заслуживает некоторого внимания. Для меня он явно автобиографичен. Однажды я показал его знакомому психиатру; он был очарован. «Это заявление о пропаже человека», — сказал он. Думаю, я могу выделить две области, о которых мог бы порассуждать психиатр: одна внутри семьи Пэтченов, а другая вне ее — то есть то, как молодой писатель видел свою роль в мире. Потребовался бы генетик с немалым воображением, чтобы определить, как аист принес в дом Пэтченов поэта-пророка, одержимого языком. Кеннет, похоже, был для родителей не просто загадкой; видимо, часто он был раздражителем. Представьте себе трение и, для него, фрустрацию.
В рассказе циничный друг рассказчика Суонсон говорит: «У тебя... чертовски хорошенькая сестра, которая отбрасывает копыта, и, может быть, ты хотел переспать с ней... ну и что?» Суонсон, безусловно, сгущает краски касательно природы этих отношений, чтобы донести свою мысль, но разве не было бы естественным для Пэтчена перенести на сестру ту привязанность, которую он не мог испытывать к родителям, потому что считал, что они его не понимают? Позже, не стала ли Мириам с ее пониманием и полной преданностью идеальной заменой его любимой сестре? Сколько обиды, сколько гнева, сознательного или бессознательного, мог таить Пэтчен против отца и матери?
И затем, если такой гнев существовал, какая его часть могла быть позже перенесена на левый истеблишмент — потенциального покровительствующего и наставляющего «родителя» — когда тот не принял его раннюю революционную поэзию? Суонсон описывается как левый поэт, «который вошел чистым и твердым на волне пролетарской литературы и остался выброшенным на берег, когда она отступила». Говорит ли Пэтчен через неудачу Суонсона с левыми о своей собственной первой книге «Перед храбрыми»? Насколько сильно его ранил прохладный прием в левых журналах? В рассказе он продолжает говорить о Суонсоне: «Теперь он пишет гнев. Он увяз в ненависти к людям, которые не достойны внимания». Я нахожу это утверждение — «Он пишет гнев» — очень важным для понимания творчества Пэтчена. И я связываю семейный гнев с политическим. Мы должны признать это. Пэтчен часто действительно пишет гнев. Возьмем, к примеру, стихотворение «Огромные руки палача» (The Hangman's Great Hands):
В рассказе циничный друг рассказчика Суонсон говорит: «У тебя... чертовски хорошенькая сестра, которая отбрасывает копыта, и, может быть, ты хотел переспать с ней... ну и что?» Суонсон, безусловно, сгущает краски касательно природы этих отношений, чтобы донести свою мысль, но разве не было бы естественным для Пэтчена перенести на сестру ту привязанность, которую он не мог испытывать к родителям, потому что считал, что они его не понимают? Позже, не стала ли Мириам с ее пониманием и полной преданностью идеальной заменой его любимой сестре? Сколько обиды, сколько гнева, сознательного или бессознательного, мог таить Пэтчен против отца и матери?
И затем, если такой гнев существовал, какая его часть могла быть позже перенесена на левый истеблишмент — потенциального покровительствующего и наставляющего «родителя» — когда тот не принял его раннюю революционную поэзию? Суонсон описывается как левый поэт, «который вошел чистым и твердым на волне пролетарской литературы и остался выброшенным на берег, когда она отступила». Говорит ли Пэтчен через неудачу Суонсона с левыми о своей собственной первой книге «Перед храбрыми»? Насколько сильно его ранил прохладный прием в левых журналах? В рассказе он продолжает говорить о Суонсоне: «Теперь он пишет гнев. Он увяз в ненависти к людям, которые не достойны внимания». Я нахожу это утверждение — «Он пишет гнев» — очень важным для понимания творчества Пэтчена. И я связываю семейный гнев с политическим. Мы должны признать это. Пэтчен часто действительно пишет гнев. Возьмем, к примеру, стихотворение «Огромные руки палача» (The Hangman's Great Hands):
И всё, что есть в этом дне...
Мальчик с кепкой, нахлобученной на то, что было лицом...
Как-то коп будет спать сегодня ночью, будет заниматься любовью с женой...
Гнев не поможет. Я был рождён гневным.
Гневным оттого, что моего отца заживо сжигали на заводах;
Гневным оттого, что никто из нас не знал ничего, кроме грязи и нищеты.
Гневным, потому что я был именно тем, за кого кто-то должен был
Сражаться
Переверни его; посмотри хорошенько на его лицо...
Кто-то будет видеть это лицо ещё долгое время.
Мальчик с кепкой, нахлобученной на то, что было лицом...
Как-то коп будет спать сегодня ночью, будет заниматься любовью с женой...
Гнев не поможет. Я был рождён гневным.
Гневным оттого, что моего отца заживо сжигали на заводах;
Гневным оттого, что никто из нас не знал ничего, кроме грязи и нищеты.
Гневным, потому что я был именно тем, за кого кто-то должен был
Сражаться
Переверни его; посмотри хорошенько на его лицо...
Кто-то будет видеть это лицо ещё долгое время.
Под мягкостью духа и верой в любовь скрывался глубокий гнев. Я помню этот кипящий гнев из ночных разговоров в 1945 году, когда Пэтчены жили недалеко от Абингдон-сквер в Гринвич-Виллидж. Они снимали маленький двухкомнатный домик, построенный на задворках. Это было довольно убогое место, но Мириам, как ей всегда удавалось, сделала его веселым и уютным. Весь вечер Кеннет пил кофе; мне казалось, он вот-вот лопнет от него. Сначала разговор был тихим. (Так часто я удивлялся с годами, как великолепный, богатый язык его стихов мог исходить от такого простого в общении, почти нерешительного собеседника. Генри Миллер записал слова о «потрясающем молчании Пэтчена. Кажется, оно исходит из его плоти, словно он заставил плоть замолчать. Это сверхъестественно. Вот человек с даром языков, а он не говорит. Вот человек, с которого стекают слова, но он отказывается открывать рот». Миллер преувеличивает, но не совсем.) Через несколько часов и еще больше кофе эмоции Пэтчена нарастали, и гнев начинал прорываться наружу. Риторика становилась пиротехнической. Большая ее часть была сосредоточена на плохом состоянии мира, успешных поэтах, которые ему не нравились, и тупости редакторов Partisan Review, которые не хотели его печатать.
Пэтчен работал на сталелитейных заводах, чтобы заработать деньги на колледж в Висконсине. Он был хорошим атлетом. Мне говорили, что из-за болезни сердца ему пришлось отказаться от футбольной стипендии. (Возможно, была и футбольная травма, которая положила начало пожизненным проблемам со спиной.) Но он также был литератором и считал себя таковым с семнадцати лет, когда New York Times приняла два его сонета. Однажды я встретил даму, которая встречалась с Пэтченом, когда они вместе росли в Огайо — она говорила о нем как об «эстетическом типе» и изрядном денди. Он знал все о французских поэтах, сказала она мне. О каких французских поэтах? Она не могла вспомнить. Суонсон в рассказе упоминает Вийона. Мог ли он читать Рембо? Это бы подошло. Пэтчена часто сравнивают с сюрреалистами; Чарльз Гликсберг назвал его творчество «сюрреализмом, сорвавшимся с цепи». Я думаю, что это обвинение ошибочно; сравнение слишком легкое. Какое сюрреалистическое искусство похоже на эти стихи-картины? Никакое из мне известных. Я думаю, что в Пэтчене действуют два совершенно разных механизма воображения. Некоторые фантастические стихи Пэтчена похожи на сны, но они определенно не являются онейрическими диктовками по правилам сюрреалистов. Вместо этого они сочетают слияние слова и образа с часто причудливой фантазией.
Я возвращаюсь к рассказу «Похороните их в Боге», потому что многие техники и стратегии, которые Пэтчен позже разовьет в таких прозаических книгах, как «Мемуары застенчивого порнографа» (Memoirs of a Shy Pornographer) и «Журнал Альбиона Мунлайта» (The Journal of Albion Moonlight), появляются в нем впервые. (Визуальные трюки, конкретная поэзия «Спящие пробуждаются» (Sleepers Awake) появились позже.) Коллажная структура частей в контрастных стилях заменяет последовательное повествование. Здесь есть словесное преувеличение для комического эффекта, и сленг смешивается с литературным стилем для той же цели. Происходит смена персоны, когда Суонсон берет на себя роль рассказчика. Мы находим своего рода прозу в стихах в импрессионизме некоторых пассажей. Здесь используется курсив для пародийных вставок библейской прозы (И он сказал: как могу я, если кто-нибудь не наставит меня?.. и тотчас ангел отошёл от него), которые вставлены без паузы в жесткий по стилю абзац, где рассказчик воображает, что бьет свою мать «доской с торчащим длинным гвоздем». Здесь есть синкопированный, интимный диалог между любовниками. Все стилистические ингредиенты на месте, которые позже будут разработаны и отточены — или почти все из них.
Пэтчен работал на сталелитейных заводах, чтобы заработать деньги на колледж в Висконсине. Он был хорошим атлетом. Мне говорили, что из-за болезни сердца ему пришлось отказаться от футбольной стипендии. (Возможно, была и футбольная травма, которая положила начало пожизненным проблемам со спиной.) Но он также был литератором и считал себя таковым с семнадцати лет, когда New York Times приняла два его сонета. Однажды я встретил даму, которая встречалась с Пэтченом, когда они вместе росли в Огайо — она говорила о нем как об «эстетическом типе» и изрядном денди. Он знал все о французских поэтах, сказала она мне. О каких французских поэтах? Она не могла вспомнить. Суонсон в рассказе упоминает Вийона. Мог ли он читать Рембо? Это бы подошло. Пэтчена часто сравнивают с сюрреалистами; Чарльз Гликсберг назвал его творчество «сюрреализмом, сорвавшимся с цепи». Я думаю, что это обвинение ошибочно; сравнение слишком легкое. Какое сюрреалистическое искусство похоже на эти стихи-картины? Никакое из мне известных. Я думаю, что в Пэтчене действуют два совершенно разных механизма воображения. Некоторые фантастические стихи Пэтчена похожи на сны, но они определенно не являются онейрическими диктовками по правилам сюрреалистов. Вместо этого они сочетают слияние слова и образа с часто причудливой фантазией.
Я возвращаюсь к рассказу «Похороните их в Боге», потому что многие техники и стратегии, которые Пэтчен позже разовьет в таких прозаических книгах, как «Мемуары застенчивого порнографа» (Memoirs of a Shy Pornographer) и «Журнал Альбиона Мунлайта» (The Journal of Albion Moonlight), появляются в нем впервые. (Визуальные трюки, конкретная поэзия «Спящие пробуждаются» (Sleepers Awake) появились позже.) Коллажная структура частей в контрастных стилях заменяет последовательное повествование. Здесь есть словесное преувеличение для комического эффекта, и сленг смешивается с литературным стилем для той же цели. Происходит смена персоны, когда Суонсон берет на себя роль рассказчика. Мы находим своего рода прозу в стихах в импрессионизме некоторых пассажей. Здесь используется курсив для пародийных вставок библейской прозы (И он сказал: как могу я, если кто-нибудь не наставит меня?.. и тотчас ангел отошёл от него), которые вставлены без паузы в жесткий по стилю абзац, где рассказчик воображает, что бьет свою мать «доской с торчащим длинным гвоздем». Здесь есть синкопированный, интимный диалог между любовниками. Все стилистические ингредиенты на месте, которые позже будут разработаны и отточены — или почти все из них.
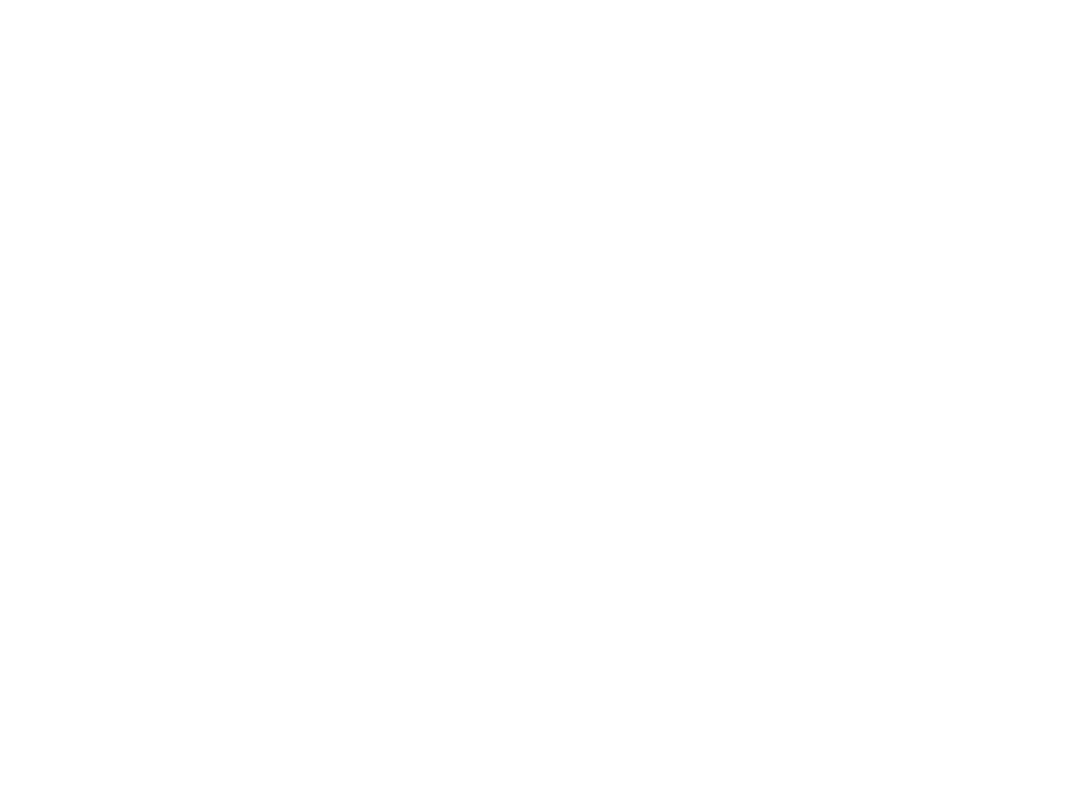
Упоминаемая рука Джеймса Локлина, прикрывающая слово «порно»
Эту сцену давайте сделаем короткой. Мне не нравится, каким сейчас я себя в ней вижу. Хоть и без кнута, но вылитый Саймон Легри3. Это происходит позже, в 1938 году; Пэтчены приехали в Норфолк, чтобы выполнять всю грязную работу по управлению New Directions, пока я порхаю по стране. Офис находится в семейном поместье на склоне горы Ханаан, где моя тетя переоборудовала небольшую конюшню в рабочее место — неогеоргианскую конюшню из белого кирпича. Стойла убрали, заменив их полками и рабочими столами для Кеннета и письменным столом для Мириам. Коттедж, где они живут, соединен с офисом крытым переходом. Коттедж стоит на опушке леса — березы, буки, сосны и тсуги, — а через Маунтин-роуд находится овечий луг. Во дворе растут рододендроны и азалии. А в полумиле вниз по лесной дороге — пруд Тоби. Очень мило? Ну, не совсем. Коттедж находится в миле от деревни, а у Пэтченов нет машины. Ворчливого шофера моей тети, Фрэнка, и молчаливого фермера Джо принуждают возить посылки с книгами на почту и привозить Пэтченам продукты. Они считают, что это выходит за рамки их обязанностей, и брюзжат по этому поводу. Если Пэтченам что-то неожиданно понадобится, им приходится идти за этим пешком. Да и Норфолк (население около 1700 человек) не отличается оживленностью. Там есть очень хорошая маленькая библиотека, которой пользуется Кеннет; в остальном — аптека, хозяйственный магазин и почта. Ближайший настоящий город с кинотеатром находится в семи милях, а автобусы не ходят. О да, прекрасное тихое место для писателя — после восьми или десяти часов упаковки книг и заполнения бухгалтерских книг. Мириам и Кеннет выполняют всю черную работу, включая корректуру, в то время как я получаю удовольствие от чтения рукописей и переписки с авторами. И горе им, если случаются какие-то промахи. Я одержим тем, чтобы бизнес работал, и обрушиваюсь на них с сарказмом, граничащим с враждебностью.
Как они терпели это так долго, я не знаю; разве что Кеннет отчаянно хотел, чтобы я издавал его книги. Что я и делал, на самом деле, на протяжении тридцати лет, хотя так и не издал всего, чего он хотел. Но я действительно любил его стихотворения-картины, и New Directions опубликовало три их сборника: «Аллилуйя в любом случае» (Hallelujah Anyway, 1966), «Но всё же» (But Even So, 1968), «Удивления» (Wonderings, 1971), а также четыре его иллюстрированные книги поэзии и прозы: «Потому что это так» (Because It Is, 1960), «Ура чему угодно» (Hurrah for Anything, 1966), «В огне и веселье ходячих лиц» (Aflame and Afun of Walking Faces, 1970) и «В поисках зажигателей свечей» (In Quest of Candlelighters, 1972). Две самые ранние из этой последней группы книг, иллюстрированные рисунками пером, углем и размывкой, показывают генезис более поздних стихотворений-картин, в которых больше нет «иллюстрации», но есть слияние слов и изображений в единое «стихотворение».
Генри Миллер был одним из самых пылких сторонников Пэтчена. Миллер продвигал Пэтчена и искал для него помощь так часто, как только мог. Его эссе «Пэтчен: Человек гнева и света» получило широкое распространение, так как было включено в его книгу «Замри, как колибри». В то время (1946) я был доволен, но сейчас, перечитывая его, я не так уж рад, что оно осталось в анналах истории. Многое в нем вводит в заблуждение, ибо Миллер сделал то, что делал так часто: он вписал самого себя в свой предмет. Пэтчен не стал бы спорить с тем, что Миллер написал на этих страницах о положении художника, но идеи и их выражение принадлежат Миллеру — такими, какими мы находим их в других его писаниях, — а не Пэтчену. Что тревожит меня больше, так это прямое искажение в описаниях Пэтчена. Чтобы подкрепить свою метафору «фыркающего дракона», который внутри является «нежным принцем», Миллер называет Кеннета монстром и «шипящей человеческой бомбой». Он продолжает: «Он неумолим; у него нет манер, нет такта, нет грации». Что ж, это просто не тот Пэтчен, которого я знал. Кеннет не был льстецом, но обладал учтивыми манерами и никогда не взрывался в моем присутствии. Миллер гораздо ближе к сути, когда сосредотачивается на книгах Пэтчена:
Как они терпели это так долго, я не знаю; разве что Кеннет отчаянно хотел, чтобы я издавал его книги. Что я и делал, на самом деле, на протяжении тридцати лет, хотя так и не издал всего, чего он хотел. Но я действительно любил его стихотворения-картины, и New Directions опубликовало три их сборника: «Аллилуйя в любом случае» (Hallelujah Anyway, 1966), «Но всё же» (But Even So, 1968), «Удивления» (Wonderings, 1971), а также четыре его иллюстрированные книги поэзии и прозы: «Потому что это так» (Because It Is, 1960), «Ура чему угодно» (Hurrah for Anything, 1966), «В огне и веселье ходячих лиц» (Aflame and Afun of Walking Faces, 1970) и «В поисках зажигателей свечей» (In Quest of Candlelighters, 1972). Две самые ранние из этой последней группы книг, иллюстрированные рисунками пером, углем и размывкой, показывают генезис более поздних стихотворений-картин, в которых больше нет «иллюстрации», но есть слияние слов и изображений в единое «стихотворение».
Генри Миллер был одним из самых пылких сторонников Пэтчена. Миллер продвигал Пэтчена и искал для него помощь так часто, как только мог. Его эссе «Пэтчен: Человек гнева и света» получило широкое распространение, так как было включено в его книгу «Замри, как колибри». В то время (1946) я был доволен, но сейчас, перечитывая его, я не так уж рад, что оно осталось в анналах истории. Многое в нем вводит в заблуждение, ибо Миллер сделал то, что делал так часто: он вписал самого себя в свой предмет. Пэтчен не стал бы спорить с тем, что Миллер написал на этих страницах о положении художника, но идеи и их выражение принадлежат Миллеру — такими, какими мы находим их в других его писаниях, — а не Пэтчену. Что тревожит меня больше, так это прямое искажение в описаниях Пэтчена. Чтобы подкрепить свою метафору «фыркающего дракона», который внутри является «нежным принцем», Миллер называет Кеннета монстром и «шипящей человеческой бомбой». Он продолжает: «Он неумолим; у него нет манер, нет такта, нет грации». Что ж, это просто не тот Пэтчен, которого я знал. Кеннет не был льстецом, но обладал учтивыми манерами и никогда не взрывался в моем присутствии. Миллер гораздо ближе к сути, когда сосредотачивается на книгах Пэтчена:
Пэтчен использует язык бунта... Именно в своих прозаических произведениях Пэтчен использует этот язык наиболее эффективно. С «Журналом Альбиона Мунлайта» Пэтчен открыл жилу, уникальную для английской литературы. Эти прозаические работы, последней из которых появилась «Спящие пробуждаются», не поддаются классификации. Подобно старинным Книгам чудес, каждая страница содержит какое-то новое диво. За внешним хаосом и безумием быстро обнаруживаешь логику и волю дерзкого творца. Вспоминаешь Блейка, Лотреамона, Пикассо — и Якоба Бёме. Странные предшественники! Но вспоминаешь также Савонаролу, Грюневальда, Иоанна с Патмоса, Иеронима Босха — и времена, события и сцены, узнаваемые только в зале ожидания сна.
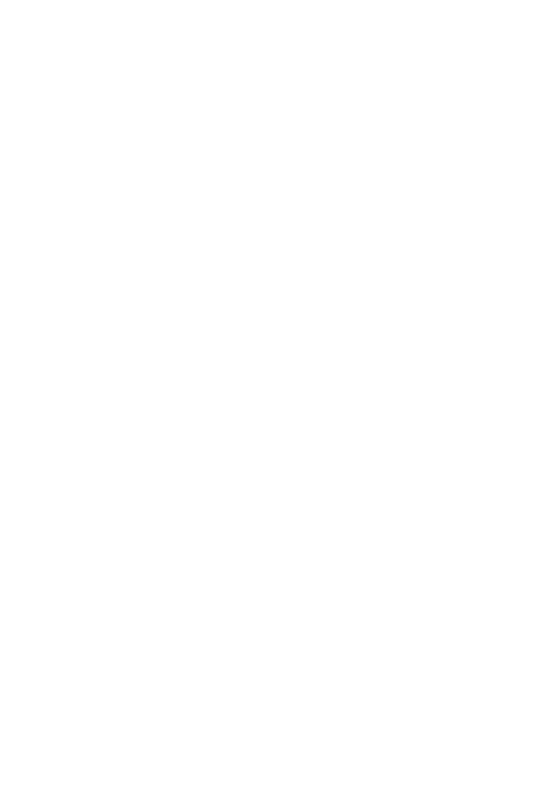
Выпущенная отдельным изданием статья Генри Миллера о Пэтчене
Босх был любимцем Миллера. Одну из своих лучших книг он назвал «Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха». Видел ли Пэтчен репродукции таких картин, как «Сад земных наслаждений», когда начинал рисовать странных маленьких животных для своих стихов-картин? Вероятно, видел. Но они не из одной зоологии. Для меня существа Босха злобны и несут какой-то извращенный подтекст. Существа Пэтчена — любящие и счастливые.
На дворе 1947 год, и я спустился с холмов Личфилд, чтобы навестить Пэтченов недалеко от Олд-Лайма, штат Коннектикут. Это лесная идиллия. Маленький красный коттедж, который они снимают, находится в лесу, чуть в стороне от деревни. Там есть степенный черный кот по имени Пушкин. Спина Кеннета болит, поэтому он не может присоединиться к нам, когда мы идем гулять среди деревьев. Но где же зеленые олени Кеннета? Для него олени — зеленые. Они зеленые в некоторых стихах и в «Мемуарах застенчивого порнографа» — книге, на обложке которой моя рука прикрывает слово «порно». И годы спустя, когда он надеялся на издание собрания сочинений, которое я так и не смог для него осуществить, он хотел, чтобы оно называлось «Серия Зелёного Оленя». Нетрудно представить, что символизировали для него зеленые олени: естественный континуум, связь между человеком и животными, которую понимали индейцы, сохранение нашей окружающей среды, даже само воображение. И олени эти родственны причудливым животным и птицам, появляющимся в стихотворениях-картинах.
Я уезжал из Олд-Лайма с чувством, что нашел Кеннета счастливым. Несмотря на спину и обычные финансовые заботы, он казался более расслабленным, более принимающим. Я унес с собой усиленное ощущение того качества привязанности, которое связывало Кеннета и Мириам друг с другом и позволяло им поддерживать друг друга и сохранять его жизнь. Он читал мне некоторые любовные стихи, которые писал ей. Трудно выбрать что-то одно из множества прекрасных любовных стихотворений, написанных Кеннетом для Мириам. Она была его Ситой, Ситой — женой Рамы из «Рамаяны», которая до сих пор почитается в Индии как идеальная жена.
На дворе 1947 год, и я спустился с холмов Личфилд, чтобы навестить Пэтченов недалеко от Олд-Лайма, штат Коннектикут. Это лесная идиллия. Маленький красный коттедж, который они снимают, находится в лесу, чуть в стороне от деревни. Там есть степенный черный кот по имени Пушкин. Спина Кеннета болит, поэтому он не может присоединиться к нам, когда мы идем гулять среди деревьев. Но где же зеленые олени Кеннета? Для него олени — зеленые. Они зеленые в некоторых стихах и в «Мемуарах застенчивого порнографа» — книге, на обложке которой моя рука прикрывает слово «порно». И годы спустя, когда он надеялся на издание собрания сочинений, которое я так и не смог для него осуществить, он хотел, чтобы оно называлось «Серия Зелёного Оленя». Нетрудно представить, что символизировали для него зеленые олени: естественный континуум, связь между человеком и животными, которую понимали индейцы, сохранение нашей окружающей среды, даже само воображение. И олени эти родственны причудливым животным и птицам, появляющимся в стихотворениях-картинах.
Я уезжал из Олд-Лайма с чувством, что нашел Кеннета счастливым. Несмотря на спину и обычные финансовые заботы, он казался более расслабленным, более принимающим. Я унес с собой усиленное ощущение того качества привязанности, которое связывало Кеннета и Мириам друг с другом и позволяло им поддерживать друг друга и сохранять его жизнь. Он читал мне некоторые любовные стихи, которые писал ей. Трудно выбрать что-то одно из множества прекрасных любовных стихотворений, написанных Кеннетом для Мириам. Она была его Ситой, Ситой — женой Рамы из «Рамаяны», которая до сих пор почитается в Индии как идеальная жена.
О моя любимая тревожит небеса
Своей прелестью
Она сшита из такой ткани
Что ангелы плачут, видя ее
Маленькие боги живут там, где она движется
И их руки открывают золотые ларцы
Чтобы я лежал в них
Она построена из лилий и леденцовых голубей
И самая юная звезда просыпается в её волосах
Она зовёт меня музыкой серебряных колокольчиков
И ночью мы шагаем в другие миры
Словно птицы, летящие сквозь красный и жёлтый воздух
Детства
О она касается меня кончиками чуда
И ангелы жмутся друг к другу, как сонные котята
Своей прелестью
Она сшита из такой ткани
Что ангелы плачут, видя ее
Маленькие боги живут там, где она движется
И их руки открывают золотые ларцы
Чтобы я лежал в них
Она построена из лилий и леденцовых голубей
И самая юная звезда просыпается в её волосах
Она зовёт меня музыкой серебряных колокольчиков
И ночью мы шагаем в другие миры
Словно птицы, летящие сквозь красный и жёлтый воздух
Детства
О она касается меня кончиками чуда
И ангелы жмутся друг к другу, как сонные котята
Конечно, в таком стихотворении есть огрехи. Большому мужчине было бы трудно спать в золотом ларце такого размера, который могли бы носить маленькие боги. Закат может быть красным и желтым, но воздух — нет. У чуда нет кончиков. Легко понять, почему критики истеблишмента, когда они вообще снисходили до того, чтобы заметить Пэтчена, высмеивали его как сентиментального. Безусловно, это сентиментальное стихотворение. Но для меня оно работает, несмотря на небрежную образность. Интенсивность чувства вытягивает его. Чувство передается. Каждый влюбленный поэт не обязан быть Кавальканти, описывающим любовь в аристотелевских терминах Donna mi pregha4. Существуют разные виды поэзии, и все они могут работать, если есть страсть. Именно «сентиментальность» Пэтчена и связанные с ней излишества делали его слишком легкой мишенью для «новых критиков» и профессоров английской словесности, которые всю жизнь устраивали ему порку. Но были среди них и немногие, способные видеть обе стороны медали. Одним из них был Джеймс Дикки, очень хороший поэт и критик, который писал в Sewanee Review в 1958 году (собрано в Babel to Byzantium, Farrar, Straus, & Giroux, 1968):
Пэтчен, несмотря на то что он произвел подлинно непроходимую гору утомительных, очевидных, самодовольных, расползающихся, сентиментальных, бестолковых, нравоучительных, безвкусных, бесполезных стихов и книг, все же является лучшим поэтом, которого может показать американский литературный экспрессионизм. Временами, во фрагментах и обрывках, которые никто больше не хочет выискивать, он предстает писателем великолепной дерзости и изобретательности, автором нескольких пассажей, которые, насколько я могу судить, сравнимы с самым интуитивно прекрасным письмом, когда-либо созданным...
Если существует такая вещь, как чистое или необработанное воображение, то у Пэтчена оно есть, или было. С его помощью он создал за двадцать пять лет заметки в форме отрывочных, неудовлетворительных, фрагментарно гениальных стихотворений для единого, ненаписанного космического Труда, который имеет, по крайней мере в некоторых своих частях, аналогии с пророческими книгами Блейка...
Он создал и населил место, которое никогда не существовало бы без него: царство «Темного Королевства», где «все, кто сопротивлялся втайне... снабжены зелеными коронами», и где смутные, могущественные фигуры фантасмагорического лимба, люди из снов и, прежде всего, мифические животные, которых видит только он, порой столь же безутешно тревожны, как галлюцинации безумца или алкоголика, и иногда, словно случайно, воспроизведены языком, придающим им единственно возможный для такого рода письма вид ценности: делающим их навязчивыми, непростительными и великолепными.
Если существует такая вещь, как чистое или необработанное воображение, то у Пэтчена оно есть, или было. С его помощью он создал за двадцать пять лет заметки в форме отрывочных, неудовлетворительных, фрагментарно гениальных стихотворений для единого, ненаписанного космического Труда, который имеет, по крайней мере в некоторых своих частях, аналогии с пророческими книгами Блейка...
Он создал и населил место, которое никогда не существовало бы без него: царство «Темного Королевства», где «все, кто сопротивлялся втайне... снабжены зелеными коронами», и где смутные, могущественные фигуры фантасмагорического лимба, люди из снов и, прежде всего, мифические животные, которых видит только он, порой столь же безутешно тревожны, как галлюцинации безумца или алкоголика, и иногда, словно случайно, воспроизведены языком, придающим им единственно возможный для такого рода письма вид ценности: делающим их навязчивыми, непростительными и великолепными.
В то время, когда Пэтчен писал, экологическое движение еще не стало той общественной озабоченностью, которой оно является сегодня. Мы пережили шок Хиросимы, а на Востоке губернатор Рокфеллер говорил нам строить убежища под домами, но мало кто из нас осознавал или хотел верить, что ядерная война станет полным уничтожением, стирающим все живое на планете. Но Пэтчен понимал это очень хорошо. Однако тогда еще не было общепринятой традиции экологической поэзии, какой мы видим ее сейчас, в ее лучшем проявлении, в творчестве такого поэта, как Гэри Снайдер. Джефферс воспевал Биг-Сур, а Эверсон — местность к северу от Сан-Франциско. Фрост дал нам сельскую Новую Англию, а Рексрот писал свои великие философские горные поэмы о Сьерра-Неваде. Эти поэты были наиболее доступны Пэтчену, но его страсть требовала более сильного, более обвинительного голоса. В одном из стихотворений-картин он говорит политикам:
Я объявляю международную неделю
«закрой свой большой жирный хлопающий рот»
«закрой свой большой жирный хлопающий рот»
А в другом он говорит промышленникам и их банкирам:
Птицы очень бережны с этим миром
Ха! много хорошего им это даст!
(За этими столами
сидят очень опасные парни, Детка.)
Ха! много хорошего им это даст!
(За этими столами
сидят очень опасные парни, Детка.)
И он предупреждает нас всех:
Слова, что говорят из истерзанных тел
человеческих существ
Это осадки, которые покрывают теперь всё на земле
Лучшая надежда в том, что однажды
земле станет достаточно противно, чтобы просто уйти,
оставив людей, которым больше не на чем стоять,
кроме того, за что они так чертовски упорно стояли до сих пор.
человеческих существ
Это осадки, которые покрывают теперь всё на земле
Лучшая надежда в том, что однажды
земле станет достаточно противно, чтобы просто уйти,
оставив людей, которым больше не на чем стоять,
кроме того, за что они так чертовски упорно стояли до сих пор.
В развернутой форме своих стихотворений Пэтчен мог развивать темы богаче, хотя иногда стихотворение становилось слишком насыщенным, с нагромождением образов, пока не терялась ясность и читатель не чувствовал себя подавленным избытком сенсорной стимуляции. Вот два коротких стихотворения, которые не выходят из-под контроля и в которых мы можем узнать интимную связь Пэтчена с природой и животным миром:
Перепёлка порхает, как заброшенный падающий замок
Я не желаю ей зла
Она думает, я хочу навредить её птенцам;
Малютки где-то спрятаны.
Они шевелят крошечными ртами, но не плачут.
Я никогда не смогу причинить тебе боль, маленькая птичка
Я никогда не смогу причинить тебе боль
У меня осталась всего одна пуля
А вокруг так много всего, что нужно убить.
«Качество милосердия»
Они стоят довольные, жуя
Что значит жить сейчас?
Они плотные, и мышцы двигаются
Легко в масле их крови
Что значит жить сейчас?
Они сближают лица, как дети
И их огромные нежные глаза смотрят на меня
Что значит жить сейчас?
Я провожу рукой по их шеям, с любовью.
«Пахотные лошади»
Я не желаю ей зла
Она думает, я хочу навредить её птенцам;
Малютки где-то спрятаны.
Они шевелят крошечными ртами, но не плачут.
Я никогда не смогу причинить тебе боль, маленькая птичка
Я никогда не смогу причинить тебе боль
У меня осталась всего одна пуля
А вокруг так много всего, что нужно убить.
«Качество милосердия»
Они стоят довольные, жуя
Что значит жить сейчас?
Они плотные, и мышцы двигаются
Легко в масле их крови
Что значит жить сейчас?
Они сближают лица, как дети
И их огромные нежные глаза смотрят на меня
Что значит жить сейчас?
Я провожу рукой по их шеям, с любовью.
«Пахотные лошади»
«Журнал Альбиона Мунлайта» (The Journal of Albion Moonlight), безусловно, самая важная прозаическая книга Пэтчена. Летом 1940 года (он тогда жил на Бликер-стрит в Виллидже) он написал мне, что начал работу над ней, и, заинтригованный названием, я спросил его, что это будет за книга. Я процитирую его ответ довольно подробно, потому что это историческое заявление — как о книге, так и о нем самом, — которое никогда не публиковалось:
Я пытаюсь написать духовный отчет об этом лете. Я делаю это на нескольких уровнях... понимая, что должен придать рассказчику журнала телесное присутствие, я решил окружить его полувымышленными персонажами, которые будут выступать в роли тех, кто придает определенность и интерес вещам, которые Альбион Мунлайт решил записать. Должны ли эти персонажи соответствовать привычной пространственно-временной механике романа? Нет, я не собирался писать ни детектив, ни любовную историю, и уж тем более роман идей — моей задачей было сохранить неприкосновенным мое намерение написать журнал этого лета — лета, когда все кодексы и этика, которыми люди жили веками, подверглись кислотным испытаниям всеобщей войны и вселенского разочарования. Я должен был воссоздать этот хаос... неизведанный ужас и страдание и полную потерю духа большинством людей.
Я использовал повествовательный метод следующим образом: он был моим оружием против ложной и стерильной реальности книжных историй — я высмеял скрипучий каркас детектива и сказки «а что будет дальше»; я, думаю, держал читателя в напряжении — я сделал его участником — я убрал очевидные ориентиры и побудил его принять книгу такой, какая она есть: попыткой оценить мир в тех точных терминах, которыми мир будет навязывать ему свою волю.
Я ввожу в журнал маленький роман. Это делается для того, чтобы я мог подойти к проблеме косвенным путем, чтобы иметь возможность писать о персонажах так, как будто они уже являются общественным достоянием романиста, а не только спутниками Мунлайта — чтобы дать им истории вне пределов журнала, чтобы указать, что они имели существование из плоти и крови до лета 1940 года.
Сейчас я нахожусь в том месте написания, где Адольф Гитлер приходит к Мунлайту после бомбардировки. Я планирую длинный диалог между ними — в котором Гитлер просит у Мунлайта совета, выхода.
Смысл моей книги? Он означает тысячу и тысячу вещей. В чем смысл этого лета?
Я использовал повествовательный метод следующим образом: он был моим оружием против ложной и стерильной реальности книжных историй — я высмеял скрипучий каркас детектива и сказки «а что будет дальше»; я, думаю, держал читателя в напряжении — я сделал его участником — я убрал очевидные ориентиры и побудил его принять книгу такой, какая она есть: попыткой оценить мир в тех точных терминах, которыми мир будет навязывать ему свою волю.
Я ввожу в журнал маленький роман. Это делается для того, чтобы я мог подойти к проблеме косвенным путем, чтобы иметь возможность писать о персонажах так, как будто они уже являются общественным достоянием романиста, а не только спутниками Мунлайта — чтобы дать им истории вне пределов журнала, чтобы указать, что они имели существование из плоти и крови до лета 1940 года.
Сейчас я нахожусь в том месте написания, где Адольф Гитлер приходит к Мунлайту после бомбардировки. Я планирую длинный диалог между ними — в котором Гитлер просит у Мунлайта совета, выхода.
Смысл моей книги? Он означает тысячу и тысячу вещей. В чем смысл этого лета?
Должен признаться, что когда Пэтчен прислал мне готовую рукопись «Мунлайта», я был в недоумении. Я еще не был готов к ней. (И Паунд, и Торнтон Уайлдер предупреждали меня о временном лаге, который неизбежен, по крайней мере для обычных читателей, когда появляется произведение подлинной оригинальности.) Я отправил рукопись Эдмунду Уилсону для оценки. Его отчет — это классический Уилсон, и однажды его следует опубликовать полностью, чтобы показать, с чем Пэтчен столкнулся в лице литературного истеблишмента, и почему он был так озлоблен его властью. Приведу несколько строк: «Это смесь Рембо, дадаистов, Кафки и множества других вещей — со значительным собственным талантом Пэтчена к импровизации нагромождения образов, идей и диалогов. Мне не было скучно читать: есть много словесной удачи, и много неожиданных и забавных вещей... у него есть талант, и его нужно поощрять; но он все еще довольно инфантилен». Уилсон закончил свой отчет милым штрихом в духе Новой Англии: «Я пропустил большие куски последней части книги, так что заплатите мне только 40 долларов». Так что первое издание «Мунлайта» было опубликовано самими Кеннетом и Мириам. Но позже я прозрел, и книга была добавлена в список изданий в мягкой обложке New Directions и стала там, по крайней мере для нас, бестселлером.
Интересно, на мой взгляд, сравнить то, что наш величайший литературный критик, Эдмунд Уилсон, нашел в «Журнале Альбиона Мунлайта», с тем, что увидели в книге двое равных Пэтчену поэтов — Уильям Карлос Уильямс и Кеннет Рексрот. Рецензия Уильямса озаглавлена «Совет безумия», а Рексрота — «Кеннет Пэтчен: Натуралист общественного кошмара». (Оба текста включены в бесценную книгу Ричарда Моргана «Кеннет Пэтчен: Сборник эссе».)
Прозаический стиль критики Уильямса благословенно уникален своим синтаксисом, который заставляет нас думать по-новому, своей субъективностью — человек пишет о поэзии, сам написав одни из лучших стихов, — и своей любопытной, рыскающей манерой. Он кружит вокруг предмета, как собака, обнюхивающая деревья; найдя нужное, он дает волю чувствам.
Интересно, на мой взгляд, сравнить то, что наш величайший литературный критик, Эдмунд Уилсон, нашел в «Журнале Альбиона Мунлайта», с тем, что увидели в книге двое равных Пэтчену поэтов — Уильям Карлос Уильямс и Кеннет Рексрот. Рецензия Уильямса озаглавлена «Совет безумия», а Рексрота — «Кеннет Пэтчен: Натуралист общественного кошмара». (Оба текста включены в бесценную книгу Ричарда Моргана «Кеннет Пэтчен: Сборник эссе».)
Прозаический стиль критики Уильямса благословенно уникален своим синтаксисом, который заставляет нас думать по-новому, своей субъективностью — человек пишет о поэзии, сам написав одни из лучших стихов, — и своей любопытной, рыскающей манерой. Он кружит вокруг предмета, как собака, обнюхивающая деревья; найдя нужное, он дает волю чувствам.
Ибо то, что мы ищем, — это лекарство. В лучшем случае именно об этом книга. Человек, ужасно искусанный и ищущий исцеления, исцеления для измученного духа своего времени. Нас не интересует мораль Панча и Джуди с белоснежной душой, завернутой в простыню — или туман, неважно. Мы готовы и желаем принять низменный человеческий дух, о котором, не имей он тазобедренного сустава, мы никогда не смогли бы говорить вовсе. Мы знаем и можем чувствовать ту бредовую реальность, терзаемую эротическими снами, которая часто и есть мы сами. Эта книга — из сточной канавы.
История — это старейшая из всех тем, путешествие, евангельское по цели, то есть с целью спасти мир от надвигающейся гибели. Послание должно быть передано Ройвасу, читайте имя задом наперед5.
Он должен передать послание людям, таким как они есть, потерявшим надежду в мире...
Пэтчен швыряет свои яркие впечатления на страницу и оставляет их как есть. Он исследует уродства правды, которые видит в себе и вокруг себя. Не праздно. Он ищет, книга ищет, если я прав, новый порядок среди обломков разума, обусловленного старыми и стойкими крушениями...
Где происходит путешествие, спросил я? В Америке? Почему нет? Одно место похоже на другое. В разуме? Как? Что такое разум? Вы не можете отделить его от тела или земли, так же как не можете отделить Америку от мира. Мы все едины, мы все виновны.
Хороша эта книга или нет (не будем преждевременно говорить о гениальности), я считаю ее правильной, хорошо направленной и полной надежды. Это такая книга, которую нужно пытаться написать время от времени, книга, нарушающая все табу, расовая необходимость, как и райская, очищение в лучшем смысле — предлагающее возвращение к здоровью и к самому ремеслу после того, как маленькие словесно-мыслительные анютины глазки закончили свое пощипывание.
...работа молодого человека... Он озвучивает мир молодых — таким, каким он его находит, крича против того, что мы, старшие, дали ему. Именно в этом главная ценность книги.
История — это старейшая из всех тем, путешествие, евангельское по цели, то есть с целью спасти мир от надвигающейся гибели. Послание должно быть передано Ройвасу, читайте имя задом наперед5.
Он должен передать послание людям, таким как они есть, потерявшим надежду в мире...
Пэтчен швыряет свои яркие впечатления на страницу и оставляет их как есть. Он исследует уродства правды, которые видит в себе и вокруг себя. Не праздно. Он ищет, книга ищет, если я прав, новый порядок среди обломков разума, обусловленного старыми и стойкими крушениями...
Где происходит путешествие, спросил я? В Америке? Почему нет? Одно место похоже на другое. В разуме? Как? Что такое разум? Вы не можете отделить его от тела или земли, так же как не можете отделить Америку от мира. Мы все едины, мы все виновны.
Хороша эта книга или нет (не будем преждевременно говорить о гениальности), я считаю ее правильной, хорошо направленной и полной надежды. Это такая книга, которую нужно пытаться написать время от времени, книга, нарушающая все табу, расовая необходимость, как и райская, очищение в лучшем смысле — предлагающее возвращение к здоровью и к самому ремеслу после того, как маленькие словесно-мыслительные анютины глазки закончили свое пощипывание.
...работа молодого человека... Он озвучивает мир молодых — таким, каким он его находит, крича против того, что мы, старшие, дали ему. Именно в этом главная ценность книги.
Уильямс и Рексрот были друзьями, но их подходы к критике совершенно отличаются. Уильямс был инстинктивным и интуитивным; Рексрот был эрудированным компаративистом, чувствующим себя как дома во всех литературах, включая восточную. Но он также был превосходным литературным уличным бойцом. В своем эссе Рексрот начинает с того, что помещает Пэтчена в контекст либералов до Первой мировой войны:
Молчальники американской литературы... перестали отличать добро от зла. Одно из немногих исключений — Кеннет Пэтчен. Его голос — это голос совести, которая забыта. Он говорит с моральной точки зрения нового века, века уверенной надежды, до наступления эпохи мира-концлагеря. Но он говорит о мире таком, какой он есть. Представьте, если бы вдруг люди 1900 года — Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Петр Кропоткин, Ромен Роллан, Мартин Андерсен-Нексё, Максим Горький, Джек Лондон — оказались, неподготовленные и незапятнанные компромиссами, переброшены на пятьдесят лет в ужасное будущее. Пэтчен говорит так, как говорили бы они, в терминах безусловного ужаса и неприятия. Он говорит так, как однажды сказал Эмиль Золя: «Момент в совести человечества».
Трудно сказать, сливаются ли когда-нибудь по-настоящему художник и пророк... Художник и пророк кажутся вечно воюющими в Блейке и Д. Г. Лоуренсе. Но наступает момент, когда минимальная целостность, необходимая для простого функционирования художника, разрушается социальным злом, если только он не восстанет и не обличит его...
Вопреки заговору молчания всей литературной Америки, Пэтчен стал лауреатом обреченной молодежи Третьей мировой войны. Он самый читаемый молодой поэт в стране. Тех, кто его игнорирует, пытается обойти, замять его скандальные писания, читают едва ли, неохотно их студенты-англисты и ворчливо — друг друга. Много лет назад Пэтчен обозначил свою роль. «Я говорю от имени поколения, рожденного в одной войне и обреченного умереть в другой»... Его никогда не печатают в интеллектуальных ежеквартальниках. На рынке, где издатели тратят миллионы на продвижение мастурбационных фантазий слабоумных млекопитающих, его книги попали в руки молодежи, руки, которые призывают нажимать на курки, молодежи, которую гонят умирать — за слабоумных млекопитающих и их сутенеров-издателей.
Трудно сказать, сливаются ли когда-нибудь по-настоящему художник и пророк... Художник и пророк кажутся вечно воюющими в Блейке и Д. Г. Лоуренсе. Но наступает момент, когда минимальная целостность, необходимая для простого функционирования художника, разрушается социальным злом, если только он не восстанет и не обличит его...
Вопреки заговору молчания всей литературной Америки, Пэтчен стал лауреатом обреченной молодежи Третьей мировой войны. Он самый читаемый молодой поэт в стране. Тех, кто его игнорирует, пытается обойти, замять его скандальные писания, читают едва ли, неохотно их студенты-англисты и ворчливо — друг друга. Много лет назад Пэтчен обозначил свою роль. «Я говорю от имени поколения, рожденного в одной войне и обреченного умереть в другой»... Его никогда не печатают в интеллектуальных ежеквартальниках. На рынке, где издатели тратят миллионы на продвижение мастурбационных фантазий слабоумных млекопитающих, его книги попали в руки молодежи, руки, которые призывают нажимать на курки, молодежи, которую гонят умирать — за слабоумных млекопитающих и их сутенеров-издателей.
Много было написано о графических работах Пэтчена, причем авторы часто видели в них то, что, приходя к ним, хотели увидеть, поэтому, возможно, лучше всего начать с того, что сам Пэтчен говорил о них. В интервью с поэтом Джином Детро Пэтчен говорит нам:
Я не считаю себя художником. Я думаю о себе как о человеке, который использовал средство живописи в попытке расширить — дать дополнительное измерение средству слов...
Всегда существует... между словами и смыслом слов, область, в которую нельзя проникнуть... область магии, место жреца-толкователя природы, человека, который отождествляет себя со всеми вещами и со всеми существами, и который страдает и возвышается вместе со всеми ними.
Не в природе художника знать, каковы его истинные влияния... Я думаю, что тайна жизни зазвенит в работе, и когда она зазвенит наиболее сильно, истинно и честно, она зазвенит чувством тайны. [И с чувством] чуда, детского чуда... чувством отождествления со всем, что жило...
Я чувствую, что каждый раз, когда он [Пауль Клее] подходил к новому холсту, это было с чувством: «ну, вот я, я ничего не знаю о живописи, давай узнаем что-нибудь, давай почувствуем что-нибудь» — и именно это отличает художника первого ранга, новатора, человека, который разрушает [курсив мой. Дж. Л.], от человека, который идет по стопам другого.
Всегда существует... между словами и смыслом слов, область, в которую нельзя проникнуть... область магии, место жреца-толкователя природы, человека, который отождествляет себя со всеми вещами и со всеми существами, и который страдает и возвышается вместе со всеми ними.
Не в природе художника знать, каковы его истинные влияния... Я думаю, что тайна жизни зазвенит в работе, и когда она зазвенит наиболее сильно, истинно и честно, она зазвенит чувством тайны. [И с чувством] чуда, детского чуда... чувством отождествления со всем, что жило...
Я чувствую, что каждый раз, когда он [Пауль Клее] подходил к новому холсту, это было с чувством: «ну, вот я, я ничего не знаю о живописи, давай узнаем что-нибудь, давай почувствуем что-нибудь» — и именно это отличает художника первого ранга, новатора, человека, который разрушает [курсив мой. Дж. Л.], от человека, который идет по стопам другого.
Почти без исключения пишущие о стихотворениях-картинах Пэтчена видят связь с Клее, как и я. Я бы посоветовал читателям посмотреть книгу Юрга Шпиллера «Пауль Клее: Мыслящий глаз» (Paul Klee: The Thinking Eye, New York, Wittenborn, 1961).
Что меня больше всего интересует в стихотворениях-картинах, так это «существа», и происходят ли они от обычных животных из более ранних чисто текстовых стихотворений. Исключая зеленого оленя, те ранние были узнаваемыми животными, каких мы видим вокруг. Но теперь, в стихотворениях-картинах, произошли радикальные метаморфозы. Я не припомню, чтобы слышал, как Кеннет говорит об Овидии, но, подобно Овидию, он превратил многих смертных в странных существ, даже в деревья или растения. Они населяют нереальный, сюрреалистический мир; и все же это также и наш мир, потому что они говорят с нами на нашем языке. Эти перекошенные, деформированные маленькие пташки и зверушки часто ярко раскрашены, как раскрасил бы их ребенок своими мелками, и миниатюрны, как детские игрушки. Для Пэтчена было необходимостью сохранить невинность, «чудо», как он выражался, детства. Одним из его названий для этого пространства было «Темное Королевство». Это чудо было частью его защиты от плохого мира. Кеннет назвал первый сборник своих стихов, изданных в Англии «Изгнанник с самой нижней планеты» (Outlaw of the Lowest Planet). Да, эти существа — изгнанники, вне закона, но не бандиты. Они не нападают на нас. Они доброжелательны, они желают нам добра. Они предупреждают и советуют нам. Они предлагают нам то утешение, которое могут.
Почерк Пэтчена — он использовал один и тот же шрифт для стихотворений-картин и в своих письмах — вызывает любопытство. Что сказал бы о нем графолог? Провалил ли Кеннет уроки чистописания по методу Палмера, которому, несомненно, обучали в начальных школах Уоррена, штат Огайо? Джеймс Шевилл, поэт из Сан-Франциско, ныне профессор английского языка в Брауне, говорит об этом так:
Что меня больше всего интересует в стихотворениях-картинах, так это «существа», и происходят ли они от обычных животных из более ранних чисто текстовых стихотворений. Исключая зеленого оленя, те ранние были узнаваемыми животными, каких мы видим вокруг. Но теперь, в стихотворениях-картинах, произошли радикальные метаморфозы. Я не припомню, чтобы слышал, как Кеннет говорит об Овидии, но, подобно Овидию, он превратил многих смертных в странных существ, даже в деревья или растения. Они населяют нереальный, сюрреалистический мир; и все же это также и наш мир, потому что они говорят с нами на нашем языке. Эти перекошенные, деформированные маленькие пташки и зверушки часто ярко раскрашены, как раскрасил бы их ребенок своими мелками, и миниатюрны, как детские игрушки. Для Пэтчена было необходимостью сохранить невинность, «чудо», как он выражался, детства. Одним из его названий для этого пространства было «Темное Королевство». Это чудо было частью его защиты от плохого мира. Кеннет назвал первый сборник своих стихов, изданных в Англии «Изгнанник с самой нижней планеты» (Outlaw of the Lowest Planet). Да, эти существа — изгнанники, вне закона, но не бандиты. Они не нападают на нас. Они доброжелательны, они желают нам добра. Они предупреждают и советуют нам. Они предлагают нам то утешение, которое могут.
Почерк Пэтчена — он использовал один и тот же шрифт для стихотворений-картин и в своих письмах — вызывает любопытство. Что сказал бы о нем графолог? Провалил ли Кеннет уроки чистописания по методу Палмера, которому, несомненно, обучали в начальных школах Уоррена, штат Огайо? Джеймс Шевилл, поэт из Сан-Франциско, ныне профессор английского языка в Брауне, говорит об этом так:
Характерный почерк Пэтчена усиливает эффект его работы. Округлые, катящиеся каракули — это своего рода американская антикаллиграфия, привлекающая внимание к недостаткам классического чистописания, озвучивающая свое юмористическое желание блуждать в словах и встречать смеющиеся тайны. Это почерк человека, который вынес пожизненную боль, который превратил эту боль в своеобразную радость... При ближайшем рассмотрении то, что может показаться грубым письмом, становится большим, широкоглазым свитком чуда: остерегайтесь снова называть это наивным. Форма болезненной воли, упорно терпящей, ищущей, очевидна повсюду.
Сила воображения Пэтчена очевидна в названиях его стихов. Никто, даже Теннесси Уильямс, не придумал более заманчивых, более многозначительных названий. Вот несколько выбранных наугад из «Собрания стихотворений»:
«Письмо полицейскому в Канзас-Сити»
«Письмо об использовании пулемётов на свадьбах»
«Только алчность и амбиции были первыми строителями городов и основателями империй»
«Боксёры бьют сильнее, когда рядом женщины»
«Характер любви, рассматриваемый как поиск утраченного»
«Знают ли мёртвые, который час?»
«Я загнал толстого поэта в угол и сказал ему, что он пишет „ДЕРЬМО“ и ему это с рук не сойдёт»
«Может ли арфа стрелять сквозь свои пропеллеры?»
«Причина для жаворонков»
«Письмо об использовании пулемётов на свадьбах»
«Только алчность и амбиции были первыми строителями городов и основателями империй»
«Боксёры бьют сильнее, когда рядом женщины»
«Характер любви, рассматриваемый как поиск утраченного»
«Знают ли мёртвые, который час?»
«Я загнал толстого поэта в угол и сказал ему, что он пишет „ДЕРЬМО“ и ему это с рук не сойдёт»
«Может ли арфа стрелять сквозь свои пропеллеры?»
«Причина для жаворонков»
Эти чудесные названия — сами по себе маленькие поэмы, и они озвучивают огромный диапазон поэтического творчества Пэтчена. Но когда мы подходим к стихотворениям-картинам, мы находим немного другой вид названия-как-стихотворения. Стихотворения-картины похожи на расширенные названия. Они не сопоставляют несопоставимые образы, как другие стихи. В стихотворениях-картинах, как только метафора или концепция установлена, она обычно поддерживается на всем протяжении. Несомненно, это было связано с ограниченным пространством для словесного языка на довольно маленьких листах, на которых Пэтчен, рисуя на доске в постели, вынужден был работать. Иногда там всего пара десятков слов, редко намного больше. Эта вынужденная компрессия привела Пэтчена к крошечным басням, к апофегмам — некоторые серьезные, некоторые комические, — к эпиграмматическим, часто сардоническим шуткам, к лимерикам в свободном стихе. Можно ли назвать некоторые из них пэтченовскими фантазийными хайку?
Забота — единственная отвага / о вы знаете это
Что мы будем делать без нас?
У меня блюз голубого пса / Если Дьявол не виляет этим миром, Как так вышло, что все вы, паршивые коты / Лижете его ботинки!
У меня забавное чувство, что какие-то очень странно выглядящие существа там, снаружи, наблюдают за нами
Что мы будем делать без нас?
У меня блюз голубого пса / Если Дьявол не виляет этим миром, Как так вышло, что все вы, паршивые коты / Лижете его ботинки!
У меня забавное чувство, что какие-то очень странно выглядящие существа там, снаружи, наблюдают за нами
То, про существ снаружи, наблюдающих за нами, лаконично выражает, как мы увидим, центральные мотивы — как визуальные, так и сущностные — стихотворений-картин.
Мир — это ничто, что может быть познано / в тени мы снова увидим цвет глаз Бога / за пределами любви нет веры
Подумать только, всё начиналось как любой другой мир, предназначенный, / почти можно было поверить, просуществовать довольно долго
Всё сразу — вот что такое вечность
Каждый человек — это я, / Я его брат. Ни один человек мне не враг. Я Каждый Человек, и он во мне и из меня. / Это моя вера, моя сила, моя глубочайшая надежда и моя единственная вера.
Мир сейчас для всех людей / или аминь всем вещам
Подумать только, всё начиналось как любой другой мир, предназначенный, / почти можно было поверить, просуществовать довольно долго
Всё сразу — вот что такое вечность
Каждый человек — это я, / Я его брат. Ни один человек мне не враг. Я Каждый Человек, и он во мне и из меня. / Это моя вера, моя сила, моя глубочайшая надежда и моя единственная вера.
Мир сейчас для всех людей / или аминь всем вещам
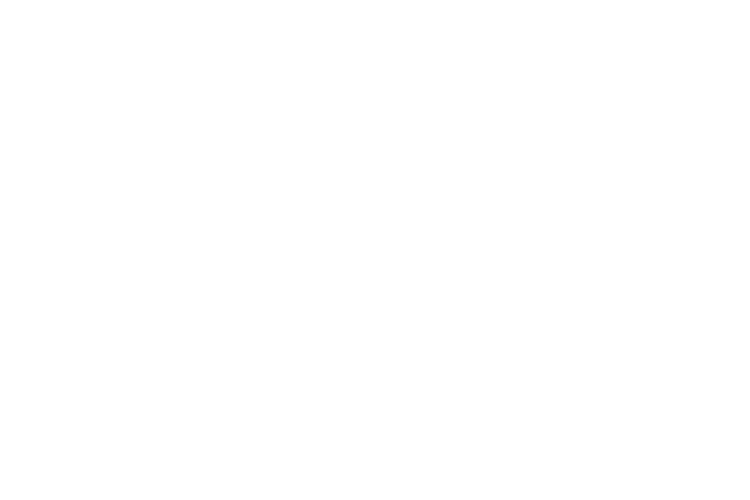
С Алленом Гинзбергом
Следующая сцена — в Сан-Франциско. Должно быть, это около 1952 года, во время одной из моих поездок в Город Поэтов из Юты, где я пытался, довольно безуспешно, управлять лыжной базой в Альте — в качестве дополнения к скудным доходам New Directions. Пэтчены снимают крошечную квартиру на втором этаже одного из тех невзрачных маленьких деревянных домов, которые, должно быть, тысячами строились после великого землетрясения и пожара 1906 года. Думаю, это было на Телеграф-Хилл, недалеко от книжного магазина City Lights Ферлингетти (и от New Joe's в Норт-Бич, где суп маритата был основой моего рациона).
Аллен Гинзберг встретил Пэтчена в Сан-Франциско примерно в это время и описал его как выглядящего «как мягкий портовый грузчик». Но сегодня он выглядит усталым и слабым. Он чувствует себя ужасно. Спина болит постоянно, и он озлоблен своей бедностью. Мириам нет, потому что ей пришлось устроиться на полный рабочий день продавщицей духов в универмаг, чтобы содержать их. Он скучает по ней и ненавидит то, что ей приходится работать. Он зол на мир, который не обеспечивает поэтов. Если бы я не был так занят лыжным курортом, можно было бы продать больше его книг? Я виню в продажах его книг менталитет продавцов в большинстве книжных магазинов. (Однажды он действительно попытался угодить массовому вкусу и написал роман «Увидимся утром» (See You in the Morning); он принес немного денег, но недостаточно, чтобы сделать такую халтуру терпимой.) «Но магазины покупают Элиотта, — говорит он, — стопки Элиота лежат у Пола Элдера». «Элиот их одурачил, — говорю я ему. — Элиот убедил их, что он британец; со времен Гражданской войны бостонские брамины считали, что если книга британская, то это должна быть литература».
Я меняю тему на «Социальный кредит» Паунда и то, как Эзра верит, что когда его экономические теории будут приняты, Национальный дивиденд обеспечит жизнь художникам и писателям. Кеннет сомневается. «Политики — самые худшие. Они ненавидят художников и боятся писателей, которые разоблачают их ложь. И больше нет ни Медичи, ни Меценатов». Я знаю, что будет дальше, хотя он щадит меня и не говорит этого. Моя тетя однажды рассказала Кеннету, как ее кузен Дункан Филлипс дал художнику Артуру Дауву стипендию. Но я ничего подобного не мог сделать для Пэтчена. Я еще не получил наследство и финансировал New Directions из своего содержания, а потом выпрашивал у семьи, когда печатник отказывался работать дальше, пока я не расплачусь. Надеждой Пэтчена было то, что его идея программы «поэзия и джаз» может стать популярной и принести деньги. С его спиной он вряд ли мог думать о гастролях, но были записи и радио. Я никогда не был в Сан-Франциско в нужное время, чтобы услышать выступление, но мне говорят, что они были действительно очень хороши, и у меня есть пластинки Cadence и Folkways, которые даже я, никогда особо не любивший джаз, нахожу захватывающими.
Аллен Гинзберг встретил Пэтчена в Сан-Франциско примерно в это время и описал его как выглядящего «как мягкий портовый грузчик». Но сегодня он выглядит усталым и слабым. Он чувствует себя ужасно. Спина болит постоянно, и он озлоблен своей бедностью. Мириам нет, потому что ей пришлось устроиться на полный рабочий день продавщицей духов в универмаг, чтобы содержать их. Он скучает по ней и ненавидит то, что ей приходится работать. Он зол на мир, который не обеспечивает поэтов. Если бы я не был так занят лыжным курортом, можно было бы продать больше его книг? Я виню в продажах его книг менталитет продавцов в большинстве книжных магазинов. (Однажды он действительно попытался угодить массовому вкусу и написал роман «Увидимся утром» (See You in the Morning); он принес немного денег, но недостаточно, чтобы сделать такую халтуру терпимой.) «Но магазины покупают Элиотта, — говорит он, — стопки Элиота лежат у Пола Элдера». «Элиот их одурачил, — говорю я ему. — Элиот убедил их, что он британец; со времен Гражданской войны бостонские брамины считали, что если книга британская, то это должна быть литература».
Я меняю тему на «Социальный кредит» Паунда и то, как Эзра верит, что когда его экономические теории будут приняты, Национальный дивиденд обеспечит жизнь художникам и писателям. Кеннет сомневается. «Политики — самые худшие. Они ненавидят художников и боятся писателей, которые разоблачают их ложь. И больше нет ни Медичи, ни Меценатов». Я знаю, что будет дальше, хотя он щадит меня и не говорит этого. Моя тетя однажды рассказала Кеннету, как ее кузен Дункан Филлипс дал художнику Артуру Дауву стипендию. Но я ничего подобного не мог сделать для Пэтчена. Я еще не получил наследство и финансировал New Directions из своего содержания, а потом выпрашивал у семьи, когда печатник отказывался работать дальше, пока я не расплачусь. Надеждой Пэтчена было то, что его идея программы «поэзия и джаз» может стать популярной и принести деньги. С его спиной он вряд ли мог думать о гастролях, но были записи и радио. Я никогда не был в Сан-Франциско в нужное время, чтобы услышать выступление, но мне говорят, что они были действительно очень хороши, и у меня есть пластинки Cadence и Folkways, которые даже я, никогда особо не любивший джаз, нахожу захватывающими.
Я отправился в центр города навестить Мириам на работе в The City of Paris. Я понял, почему ее поставили в отдел парфюмерии на первом этаже прямо у главного входа. Она была так красива и обладала таким азартом к продажам. Я заметил ее, как только вошел в магазин, и отошел в сторону, чтобы понаблюдать. Она работала с чрезмерно разодетой дамой, чье выражение тревоги ясно указывало на то, что ей нужна помощь в личной жизни. Какая экзотическая эссенция исправит для нее все? Мириам наносила маленькие капли разных ароматов на запястье дамы, и они обе нюхали и обсуждали. Решение наконец было принято, дама заплатила и ушла сияя.
Когда я подошел к прилавку, Мириам притворилась, что не знает меня. «А что я могу сделать для вас, молодой человек?» — спросила она с обаятельной улыбкой. Она достала фиолетовый хрустальный флакон в форме лебедя и устроила мне «процедуру». Эта штука пахла так ужасно — должно быть, это был чистый цвет, — что мы рассмеялись и обняли друг друга. Она сказала мне по телефону, что ее сменщица на обед придет в полдень, так и случилось, и мы отправились в кафетерий за сэндвичем с беконом и салатом и солодовым коктейлем.
Да, она очень беспокоилась о Кеннете. Его спина, казалось, становилась хуже, возможно, потребуется еще одна операция, и он был в глубокой депрессии. Тем не менее он хорошо писал и довольно много рисовал. Она на самом деле не возражала против работы, за исключением того, что ненавидела оставлять его одного на весь день. Ничто не могло сломить Мириам. И ничто никогда не сломило, даже когда позже дела пошли хуже.
Сначала прерывистая (когда в 1937 году Мириам сообщила о «сильном приступе нетрудоспособности спины»), становясь все более частой и, наконец, полностью лишающей дееспособности, боль стала доминирующим фактором в физической жизни Пэтчена. Я никогда толком не понимал, что именно было не так со спиной Кеннета. За эти годы было несколько разных диагнозов, несколько операций, и, наконец, одна, которая почти наверняка была сделана неудачно. Я не знаю ни одного клинического резюме, написанного медицинским писателем, но Джеймс Шевилл дает отчет о мучениях шестидесятых в своих мемуарах «Кеннет Пэтчен: Поиск чуда и радости», которые являются одним из самых чутких текстов, написанных о Пэтчене. Джим Шевилл был действительно добрым самаритянином; он часто возил Кеннета из Пало-Альто в Беркли на медицинские консультации и, подозреваю, помогал ему с расходами.
В то или иное время многие выдающиеся писатели помогали собирать деньги на медицинские счета Пэтчена. В 1950 году проводились благотворительные чтения и концерты через фонд, созданный Элиотом (да, Т. С. Элиотом, которому совсем не нравилась поэзия Пэтчена; я помню, как он нахмурился, когда я впервые показал ему книгу Пэтчена в его офисе в Faber & Faber), Торнтоном Уайлдером, Оденом и Маклишем, при поддержке Каммингса, Марианны Мур, Уильямса, Эдит Ситуэлл и многих других. Позже были благотворительные мероприятия, спонсируемые, насколько я помню, Ферлингетти, Шевиллом и остальными поэтами Сан-Франциско.
Как Пэтчен мирился со своими страданиями? Как это повлияло на его способность работать и его творчество? Генри Миллер задал ему эти вопросы. Письменный ответ Пэтчена показателен:
Когда я подошел к прилавку, Мириам притворилась, что не знает меня. «А что я могу сделать для вас, молодой человек?» — спросила она с обаятельной улыбкой. Она достала фиолетовый хрустальный флакон в форме лебедя и устроила мне «процедуру». Эта штука пахла так ужасно — должно быть, это был чистый цвет, — что мы рассмеялись и обняли друг друга. Она сказала мне по телефону, что ее сменщица на обед придет в полдень, так и случилось, и мы отправились в кафетерий за сэндвичем с беконом и салатом и солодовым коктейлем.
Да, она очень беспокоилась о Кеннете. Его спина, казалось, становилась хуже, возможно, потребуется еще одна операция, и он был в глубокой депрессии. Тем не менее он хорошо писал и довольно много рисовал. Она на самом деле не возражала против работы, за исключением того, что ненавидела оставлять его одного на весь день. Ничто не могло сломить Мириам. И ничто никогда не сломило, даже когда позже дела пошли хуже.
Сначала прерывистая (когда в 1937 году Мириам сообщила о «сильном приступе нетрудоспособности спины»), становясь все более частой и, наконец, полностью лишающей дееспособности, боль стала доминирующим фактором в физической жизни Пэтчена. Я никогда толком не понимал, что именно было не так со спиной Кеннета. За эти годы было несколько разных диагнозов, несколько операций, и, наконец, одна, которая почти наверняка была сделана неудачно. Я не знаю ни одного клинического резюме, написанного медицинским писателем, но Джеймс Шевилл дает отчет о мучениях шестидесятых в своих мемуарах «Кеннет Пэтчен: Поиск чуда и радости», которые являются одним из самых чутких текстов, написанных о Пэтчене. Джим Шевилл был действительно добрым самаритянином; он часто возил Кеннета из Пало-Альто в Беркли на медицинские консультации и, подозреваю, помогал ему с расходами.
В то или иное время многие выдающиеся писатели помогали собирать деньги на медицинские счета Пэтчена. В 1950 году проводились благотворительные чтения и концерты через фонд, созданный Элиотом (да, Т. С. Элиотом, которому совсем не нравилась поэзия Пэтчена; я помню, как он нахмурился, когда я впервые показал ему книгу Пэтчена в его офисе в Faber & Faber), Торнтоном Уайлдером, Оденом и Маклишем, при поддержке Каммингса, Марианны Мур, Уильямса, Эдит Ситуэлл и многих других. Позже были благотворительные мероприятия, спонсируемые, насколько я помню, Ферлингетти, Шевиллом и остальными поэтами Сан-Франциско.
Как Пэтчен мирился со своими страданиями? Как это повлияло на его способность работать и его творчество? Генри Миллер задал ему эти вопросы. Письменный ответ Пэтчена показателен:
Боль стала почти естественной частью меня теперь — только приступы депрессии, свойственные болезни, действительно высасывают мою энергию и искажают мой природный дух. Я мог бы говорить довольно мрачно в этой связи. Болезнь мира, вероятно, не вызвала мою, но она, безусловно, обусловливает то, как я с ней справляюсь. На самом деле, самое худшее — это то, что я чувствую, что был бы кем-то другим, если бы не был скован изнутри постоянным давлением болезни; я был бы чище, менее склонен писать, скажем, ради того, чтобы показать своей больной части, что она никогда не сможет стать всемогущей; я мог бы больше погружаться в творчество других художников, если бы мне не приходилось так пристально заниматься происходящим внутри себя; у меня было бы меньше потребности быть чистым в присутствии вещей, которые я люблю, и поэтому, вероятно, у меня был бы более личный взгляд на себя.
Я слышал, как мелочные люди говорили, что болезнь Пэтчена психосоматическая, что это болезнь мира или, по крайней мере, его одержимость ею вызвали его боль. Один из них цитировал изречение Шиллера о том, что дух управляет телом. Я в это не верю. Именно неукротимый дух Пэтчена удерживал его тело от того, чтобы убить его задолго до того, как это случилось. (Но я не могу проанализировать, что он имел в виду под необходимостью «быть чистым в присутствии вещей», которые он любил.)
Эта последняя сцена — самая печальная. Можно было бы подумать, что те три греческие дамы обеспечили бы хороший конец хорошему поэту, но так бывает не всегда. Арчи Маклиш был энергичен и писал до конца, но Рексрот лежал парализованным так, что месяцами мог поднять только одну руку, Паунд годами пребывал в глубокой депрессии, а Уильямс, разрушенный инсультами, был в ярости от бессилия, потому что мог печатать стихи «Картинок с Брейгеля» только одним пальцем со скоростью улитки, а у него в голове было так много всего, что он хотел написать.
Должно быть, это середина шестидесятых, и я навещаю Пэтченов в их маленьком домике на Сьерра-Корт в Пало-Альто. Это хороший район, тихая улица, деревья и дворик за домом, где Мириам приучает черных белок приходить к ней за кормом. Это лучший дом, в котором они когда-либо жили. Как они смогли его купить мне неведомо, разве что Мириам получила наследство. Пэтчен не получал свой грант в 10 000 долларов от Национального фонда искусств и гуманитарных наук до 1967 года. Опять же, Мириам сделала комнаты привлекательными, теплыми и веселыми. На стенах висит несколько ярких картин Кеннета, и его сокровище — крошечный оборванный клочок гравюры Блейка, подаренный ему английским поэтом Рутвеном Тоддом. Каким бы маленьким он ни был, фрагмент можно идентифицировать. Это первые две строки «Америки: Пророчества» Блейка:
Должно быть, это середина шестидесятых, и я навещаю Пэтченов в их маленьком домике на Сьерра-Корт в Пало-Альто. Это хороший район, тихая улица, деревья и дворик за домом, где Мириам приучает черных белок приходить к ней за кормом. Это лучший дом, в котором они когда-либо жили. Как они смогли его купить мне неведомо, разве что Мириам получила наследство. Пэтчен не получал свой грант в 10 000 долларов от Национального фонда искусств и гуманитарных наук до 1967 года. Опять же, Мириам сделала комнаты привлекательными, теплыми и веселыми. На стенах висит несколько ярких картин Кеннета, и его сокровище — крошечный оборванный клочок гравюры Блейка, подаренный ему английским поэтом Рутвеном Тоддом. Каким бы маленьким он ни был, фрагмент можно идентифицировать. Это первые две строки «Америки: Пророчества» Блейка:
[Князь-Хранитель Альбиона] горит в своём ночном шатре:
[Угрюмые огни через Атлантику тле]ют к берегам Америки,
[Угрюмые огни через Атлантику тле]ют к берегам Америки,
Кажется ясным, что значили «угрюмые огни» для Пэтчена: пророческое предупреждение о ядерном холокосте, которого он боялся. Строки из поэмы, предположительно написанные рукой самого Блейка, вытравлены внизу пластины, в то время как над ними парит фигура маленького ангела. Вот, я уверен, главный источник вдохновения для смешивания слов и рисунка в стихотворениях-картинах Пэтчена. Конечно, Блейк обычно отделял строки языка от рисунков на пластине, в то время как Пэтчен смешивал слова с визуальными формами, делая их частью дизайна. Но из частых ссылок на Блейка в его письмах ко мне я полагаю, что Пэтчен считал себя преемником, желая лишь найти структуру, которая не казалась бы плагиатом или пародией.
Я спросил своего друга Алексиса Раннита в Йеле, что он думает о связи Блейк/Пэтчен. (Алексис — великий эстонский поэт в изгнании, но история искусства — его хобби.) Его ответ был по существу: «В самом стиле рисования Пэтчен не подвержен влиянию Блейка (его сродство — с Беном Шаном, Колдером, Миро, Руо, Шагалом, Матиссом, Гойей, Клее и т. д.), но композиционно — да. Если вы посмотрите на такие рисунки-стихи, как: „Проверь! Вопросы — лучшие вещи, отвечай, приятель“ (1962), „Ладно, ты, можешь приземлиться“ (1962), „Король игрушек“ (1964) и „Корона из облаков“ (1968), вы увидите, что его идея, как и у Блейка, — создать кусок гобелена. Это верно только тогда, когда Пэтчен использует свой собственный почерк для стихов (а не наборный текст) и особенно когда отведенное под текст пространство больше, чем под рисунок. Таким образом Пэтчен расширяет образный масштаб своей работы в сторону абстракции и декоративности, которые, как и в случае с Блейком, становятся условием, а не целью его труда. Главное различие между Пэтченом и Блейком в том, что Блейк, как художник и поэт, оставался невинным человеком духа до Грехопадения, в то время как Пэтчен, цивилизованный художник, съел много плодов с Древа Познания».
Вернемся на Сьерра-Корт. Мириам ждет меня. У нее есть сигнал для телефона. Если это друг, вы звоните три раза, затем вешаете трубку, затем звоните снова сразу же, и она отвечает. (Я не уверен, зачем нужна эта система, потому что они видят мало людей.) Когда я вхожу, Мириам говорит мне, что у Кеннета была плохая ночь, он принял обезболивающее, но скоро сможет меня принять. Примерно через час он зовет из спальни, и она идет туда, чтобы помочь ему и дать кофе. Вскоре она приглашает меня следовать за ней. Спальня также является его студией, так как он не может передвигаться. Это солнечная комната с упорядоченным беспорядком принадлежностей для рисования: баночки с разными видами и цветами красок, кисти в банках, стопки готовых рисунков на комоде. Я не видел Кеннета больше года, и боюсь, что показываю свой шок от его вида. Он сидит в постели, опираясь на гору подушек, и выглядит ужасно. Но пусть Норман Томас расскажет об этом в своем портрете Пэтчена в журнале Outsider:
Я спросил своего друга Алексиса Раннита в Йеле, что он думает о связи Блейк/Пэтчен. (Алексис — великий эстонский поэт в изгнании, но история искусства — его хобби.) Его ответ был по существу: «В самом стиле рисования Пэтчен не подвержен влиянию Блейка (его сродство — с Беном Шаном, Колдером, Миро, Руо, Шагалом, Матиссом, Гойей, Клее и т. д.), но композиционно — да. Если вы посмотрите на такие рисунки-стихи, как: „Проверь! Вопросы — лучшие вещи, отвечай, приятель“ (1962), „Ладно, ты, можешь приземлиться“ (1962), „Король игрушек“ (1964) и „Корона из облаков“ (1968), вы увидите, что его идея, как и у Блейка, — создать кусок гобелена. Это верно только тогда, когда Пэтчен использует свой собственный почерк для стихов (а не наборный текст) и особенно когда отведенное под текст пространство больше, чем под рисунок. Таким образом Пэтчен расширяет образный масштаб своей работы в сторону абстракции и декоративности, которые, как и в случае с Блейком, становятся условием, а не целью его труда. Главное различие между Пэтченом и Блейком в том, что Блейк, как художник и поэт, оставался невинным человеком духа до Грехопадения, в то время как Пэтчен, цивилизованный художник, съел много плодов с Древа Познания».
Вернемся на Сьерра-Корт. Мириам ждет меня. У нее есть сигнал для телефона. Если это друг, вы звоните три раза, затем вешаете трубку, затем звоните снова сразу же, и она отвечает. (Я не уверен, зачем нужна эта система, потому что они видят мало людей.) Когда я вхожу, Мириам говорит мне, что у Кеннета была плохая ночь, он принял обезболивающее, но скоро сможет меня принять. Примерно через час он зовет из спальни, и она идет туда, чтобы помочь ему и дать кофе. Вскоре она приглашает меня следовать за ней. Спальня также является его студией, так как он не может передвигаться. Это солнечная комната с упорядоченным беспорядком принадлежностей для рисования: баночки с разными видами и цветами красок, кисти в банках, стопки готовых рисунков на комоде. Я не видел Кеннета больше года, и боюсь, что показываю свой шок от его вида. Он сидит в постели, опираясь на гору подушек, и выглядит ужасно. Но пусть Норман Томас расскажет об этом в своем портрете Пэтчена в журнале Outsider:
В середине утра его лицо серое, и линии по бокам рта глубокие, глаза впалые и темные от мучительных ночных воспоминаний. Когда он двигается, то с такой осторожностью и с таким опасением. Ибо все его ночи длинны; весь его сон тревожен.
Мириам приносит мне стул, и я пытаюсь поговорить с Кеннетом. Но мне нелегко, потому что ему так тяжело. Думаю, он все еще под действием обезболивающего. Его голос очень тихий. Кажется, он исходит откуда-то из глубины внутри него — подводный, поддонный голос, — и он говорит медленнее, чем когда-либо.
Словно хватаясь за единственное, что, как он знает, оживит его дух, Кеннет просит Мириам помочь ему начать рисовать. Она приподнимает его колени под одеялом и прислоняет к ним его доску для рисования. Подушки нужно поправить так, чтобы он был в более вертикальном положении для работы на доске. Наполовину законченное стихотворение-картина прикреплено к доске. Я сейчас не могу вспомнить, какое именно это было, но думаю, что в тот день он работал акриловыми красками и фломастером. Пэтчен экспериментировал со многими средствами и техниками: земляные пигменты, тушь суми, казеин, акварель, коллажи с любопытной бумагой, которую принес ему Джон Томас, возможно, даже масло, я не уверен. Однажды он написал мне:
Словно хватаясь за единственное, что, как он знает, оживит его дух, Кеннет просит Мириам помочь ему начать рисовать. Она приподнимает его колени под одеялом и прислоняет к ним его доску для рисования. Подушки нужно поправить так, чтобы он был в более вертикальном положении для работы на доске. Наполовину законченное стихотворение-картина прикреплено к доске. Я сейчас не могу вспомнить, какое именно это было, но думаю, что в тот день он работал акриловыми красками и фломастером. Пэтчен экспериментировал со многими средствами и техниками: земляные пигменты, тушь суми, казеин, акварель, коллажи с любопытной бумагой, которую принес ему Джон Томас, возможно, даже масло, я не уверен. Однажды он написал мне:
В последнее время я вожусь с «отпечатанными» рисунками, старой, старой техникой, которую любил Клее. «Вожусь» точно описывает то, что делаешь в начале.
Я придвигаю стул поближе к кровати, чтобы наблюдать. Движения его руки, как и его речь, медленные и обдуманные. Насколько я понимаю, с акрилом нельзя переделать, как с маслом. Всё должно быть правильно с первого раза. Кажется, умом он понимает, что хочет делать дальше. Он начал эту работу накануне, сверху, и теперь движется вниз по листу, чередуя ручку для надписей с кистью для фигур и фона. Помню, что фон был насыщенно-оранжевым.
«Кеннет, — спрашиваю я его, — я всегда хотел знать: когда ты сочиняешь эти вещи, что приходит первым в твой разум, стихотворение или картинка?»
Он прекращает работу и долго смотрит на меня, затем, надеюсь, это было так, с почти ласковой улыбкой. «Локлин, — говорит он, — ты спрашиваешь меня: что появляется первым, курица или яйцо?» (За все годы, что я знал его, он всегда называл меня «Локлин», никогда «Дж.»)
Мириам приносит кофе. Кеннет говорит: «Ты знаешь, Локлин не будет пить кофе». Мы смеемся. Это правда, я ненавижу кофе. Чего бы мне действительно хотелось в этот момент, так это хорошей крепкой выпивки. Но я не думаю, что в доме есть что-то подобное. Я соглашаюсь на чай. Я боюсь, что утомляю его, поэтому придумываю повод уйти. Но Кеннет настаивает на том, чтобы сделать мне подарок. Он просит Мириам принести ему стопку картин. Он внимательно перебирает их и выбирает одну прекрасную, не стихотворение-картину, а одну из ранних больших картин без слов. Сейчас она висит в моем офисе в Нью-Йорке. Я хочу, чтобы ее видело много людей. Когда я выхожу из спальни, он окликает меня. «Локлин, — говорит он мне, — когда узнаешь, что появляется первым, курица или яйцо, напиши и поведай мне». Я никогда больше не видел Кеннета. Он умер в той спальне 8 января 1972 года.
«Кеннет, — спрашиваю я его, — я всегда хотел знать: когда ты сочиняешь эти вещи, что приходит первым в твой разум, стихотворение или картинка?»
Он прекращает работу и долго смотрит на меня, затем, надеюсь, это было так, с почти ласковой улыбкой. «Локлин, — говорит он, — ты спрашиваешь меня: что появляется первым, курица или яйцо?» (За все годы, что я знал его, он всегда называл меня «Локлин», никогда «Дж.»)
Мириам приносит кофе. Кеннет говорит: «Ты знаешь, Локлин не будет пить кофе». Мы смеемся. Это правда, я ненавижу кофе. Чего бы мне действительно хотелось в этот момент, так это хорошей крепкой выпивки. Но я не думаю, что в доме есть что-то подобное. Я соглашаюсь на чай. Я боюсь, что утомляю его, поэтому придумываю повод уйти. Но Кеннет настаивает на том, чтобы сделать мне подарок. Он просит Мириам принести ему стопку картин. Он внимательно перебирает их и выбирает одну прекрасную, не стихотворение-картину, а одну из ранних больших картин без слов. Сейчас она висит в моем офисе в Нью-Йорке. Я хочу, чтобы ее видело много людей. Когда я выхожу из спальни, он окликает меня. «Локлин, — говорит он мне, — когда узнаешь, что появляется первым, курица или яйцо, напиши и поведай мне». Я никогда больше не видел Кеннета. Он умер в той спальне 8 января 1972 года.