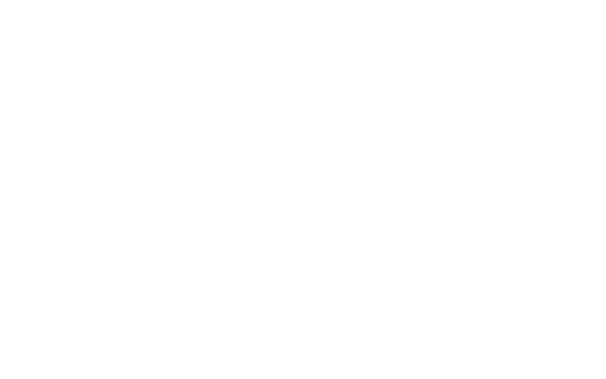Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Такая вот рука (фр.)
Это творение, творение… (фр.)
Вот! (фр.)
Под открытым небом (фр.)
Внимание! (фр.)
Ночлежки (фр.)
Родильные дома, обычно содержавшиеся на благотворительных началах церковными институциями (фр.)
Вхождение (фр.)
Потому что обязательно нужно быть женатым (фр.)
Склад мрамора (фр.)
В книге «Глаз слушает» Клодель много писал о фламандском искусстве и особенно хвалил его за то, что оно запечатлело «движение человеческой жизни к своему завершению». И напротив, искусство Родена рассматривалось как профанное. — (Прим. автора)
Веление сердца (фр.)
Важен лишь труд, и только он один (фр.)
Важна не форма объекта, а его формовка... (фр.)
Чтобы мы не забыли о таланте миссис Фуллер, а именно о ее мастерстве владения иллюзией, вот пикантный отрывок из Кокто: «Возможно ли… забыть ту женщину, которая открыла для себя танец своего возраста? Толстая американка, очкастая и довольно уродливая, стоя на подвесной платформе манипулирует шестами с волнами плавающей ткани, и мрачная, активная, невидимая, как шершень в цветке, создает вокруг себя многогранную орхидею из света и материала, которая кружится, поднимается, вспыхивает, ревет, поворачивается, плывет, меняет форму, как глина в руках гончара, закрученная в воздухе под эмблемой в виде факела и головного убора». — (Прим. автора)
Нужно трудиться (фр.)
Труд и терпение (фр.)
Пер. Н.Ф. Болдырева.
Рильке снова упоминает о маленьком тигре в письме Лу Андреас-Саломе от 15 августа 1903 года. — (Прим. автора)
Пер. Н.Ф. Болдырева.
Здесь и далее пер. А. Гелескула.
Пер. Н. Ф. Болдырева.
Опубликовано в A Temple of Texts, 2006
Роден Рильке
Автор Уильям Гэсс
Перевод Вячеслава Ярощука
Редактура Стас Кин, Никита Федосов
Мы можем притвориться, что знаем это наверняка. В понедельник в три часа пополудни 1 сентября 1902 года, с соответствующими ходатайствами о въезде, хоть он и договорился об этом заранее, тридцатишестилетний поэт Райнер Мария Рильке появился на крыльце парижской студии Огюста Родена и получил необычайно нежный и учтивый прием. Конечно, Рильке писал Родену месяцем ранее, чтобы предупредить о своем неминуемом прибытии. Письмо было начинено той разновидностью обильной похвалы, которой можно верить только в случае, если она направлена исключительно на тебя самого, и, конечно, Родену было вдвойне приятно стать объектом восхищения для столь молодого незнакомца, да еще и такого, которому поручено написать о скульпторе и его работе так же замечательно, как это уже было проделано в их переписке. Рильке воплощал энтузиазм в потрепанном костюме, но Роден, не обращавший внимания на внешность, кроме случаев, когда общался с потенциальными клиентами, был готов уделить время для беседы, безропотно терпя неуверенный французский иностранца. Он не мог догадаться, что станет жертвой смены ролей, так как художнику для разнообразия предстояло занять место на стуле. Рильке прибыл с заранее подготовленным в воображении портретом, и его неустанное перо начало совершать ментальные правки. «Казалось, что я всегда его знал, — написал он своей жене Кларе на следующий день. — Будто всего лишь увиделся с ним вновь; я нашел его меньше ростом, в то же время более крепким, любезным и благородным. Этот лоб, его отношение к носу, который подобно кораблю выплывает из бухты… крайне примечательно. У этих лба и носа каменный облик. И его уста произносят речь, звучащую хорошо, интимно, речь, полную молодости. Также его смех, этот смущенный и в то же время радостный смех ребенка, которому подарили замечательные подарки».
Свободно исследуя студию и ее святые объекты, Рильке обнаруживает, практически сразу, руку: «C'est une main comme-ça»1, — говорит Роден, настолько впечатляюще жестикулируя своими широкими и грубыми крестьянскими руками с их гипсово белыми пальцами и почерневшими ногтями, что Рильке кажется, будто он видит вещи и существ, вырастающих из них. Для воодушевленного Рильке каждое слово Родена поднимается ввысь, так что когда он указывает на две переплетенные фигуры и говорит: «c’est une création ça, une création…»2 — поэт верит, он сообщает Кларе, что слово création «отвязало себя, вызволило из языка… оставшись одиноким в мире». В каждой малости так много величия! — восклицает он странице.
Рильке пытается вобрать все, будто не настанет следующего дня, но следующий день наступает, и в девять он на поезде до Мёдона, двадцатиминутная поездка к преображению. Город цепляется за склон холма, с вершины которого видна Сена, змеящаяся к Парижу. Он поднимается по «крутой грязной деревенской улице» к Вилле Брийан, дому Родена, приобретенному скульптором в 1895 году. Рильке описывает путешествие Кларе с теми деталями, которые обычно запасают для чудес света: по мосту – еще не voilà3 — вниз по дороге — еще не voilà — мимо скромной гостиницы — еще не voilà — теперь через дверь в стене виллы, которая открывается по гравийной дорожке, обсаженной каштанами, — все еще не voilà — пока он не сворачивает за угол «маленького красно-желтого дома и останавливается» — теперь voilà! — «перед чудом — перед садом из каменных и гипсовых фигур».
Роден перенес павильон с Площади Альма, на которой выставлял свои работы в 1900, в небольшой парк, окружающий его дом, где уже было несколько мастерских, отведенных для резки камня и обжигания глины. Павильон представлял собой залитый светом зал с толстыми стеклами, заполненный гипсовыми фигурами за призрачной беседой, а также огромными стеклянными витринами, набитыми фрагментами конструкции «Врат ада». «Там лежат, — пишет Рильке, уже сочиняя свою монографию, —
Свободно исследуя студию и ее святые объекты, Рильке обнаруживает, практически сразу, руку: «C'est une main comme-ça»1, — говорит Роден, настолько впечатляюще жестикулируя своими широкими и грубыми крестьянскими руками с их гипсово белыми пальцами и почерневшими ногтями, что Рильке кажется, будто он видит вещи и существ, вырастающих из них. Для воодушевленного Рильке каждое слово Родена поднимается ввысь, так что когда он указывает на две переплетенные фигуры и говорит: «c’est une création ça, une création…»2 — поэт верит, он сообщает Кларе, что слово création «отвязало себя, вызволило из языка… оставшись одиноким в мире». В каждой малости так много величия! — восклицает он странице.
Рильке пытается вобрать все, будто не настанет следующего дня, но следующий день наступает, и в девять он на поезде до Мёдона, двадцатиминутная поездка к преображению. Город цепляется за склон холма, с вершины которого видна Сена, змеящаяся к Парижу. Он поднимается по «крутой грязной деревенской улице» к Вилле Брийан, дому Родена, приобретенному скульптором в 1895 году. Рильке описывает путешествие Кларе с теми деталями, которые обычно запасают для чудес света: по мосту – еще не voilà3 — вниз по дороге — еще не voilà — мимо скромной гостиницы — еще не voilà — теперь через дверь в стене виллы, которая открывается по гравийной дорожке, обсаженной каштанами, — все еще не voilà — пока он не сворачивает за угол «маленького красно-желтого дома и останавливается» — теперь voilà! — «перед чудом — перед садом из каменных и гипсовых фигур».
Роден перенес павильон с Площади Альма, на которой выставлял свои работы в 1900, в небольшой парк, окружающий его дом, где уже было несколько мастерских, отведенных для резки камня и обжигания глины. Павильон представлял собой залитый светом зал с толстыми стеклами, заполненный гипсовыми фигурами за призрачной беседой, а также огромными стеклянными витринами, набитыми фрагментами конструкции «Врат ада». «Там лежат, — пишет Рильке, уже сочиняя свою монографию, —
ярд за ярдом, только фрагменты, один подле другого. Фигуры размером с мою руку и больше… но только куски, едва ли одна из них целая: чаще только кусок руки, кусок ноги, по случайности лежащие друг возле друга, и кусок тела, место которому рядом с ними… Каждая из этих частей представляет собой такую выдающуюся, поразительную цельность, до того возможную саму по себе, настолько не требующую завершения, что забываешь, что это всего лишь части, и чаще всего части разных тел, которые так страстно прижимаются друг к другу».
Рильке принес подборку своих стихотворений, которую Роден почтительно перебрал, несмотря на то, что он мог оценить (как представляет Рильке) только их расположение на странице; далее он оставил Рильке блуждать по дому, изучать сокровища. Поэт излил на эти фигурки и фрагменты изобилие энтузиазма, что было его привычкой до Парижа («каждая — чувство, каждая — частичка любви, преданности, доброты»); но невозмутимое и безучастное лицо города и привычки скульптора, преданного своему делу, научат поэта видеть его окружение как оно есть, а не просто разрешать своему взгляду подобно солнечному лучу падать на поверхности, где он может любоваться собственными отражением и блеском.
Затем настал обед. И первый урок, en plein air4. Они впятером сели за козловой стол. Никто из них не представлен. Там была уставшего вида, нервная и рассеянная леди, которую Рильке принял за мадам Роден. Там был Француз, примечательный своим красным носом, и «очень милая девочка приблизительно десяти лет», которая сидела прямо напротив него. Родену, одетому для города, не терпится приступить к трапезе. Мадам отвечает потоком явного недовольства. Рильке начинает наблюдать, — Regard! Regard!5 — новая команда, — и видит, как мадам подталкивает вилки, тарелки, бокалы, наводя на столе беспорядок, как после законченной трапезы. «Сцена была не болезненной, всего лишь грустной», — пишет он. Мастер продолжает жаловаться, спокойно, как юрист, пока не приходит грязноватый человек, чтобы распределить еду, а затем настаивает, чтобы Рильке попробовал блюда, которые тот пробовать не хочет. Поэт должен был быть голодным — он был на взводе, но также излишне привередлив, своего рода веган, примечательный знак его воздушной натуры. Роден одобрительно тарахтел. Рильке говорил о своих днях в колонии художников Ворпсведе и о встреченных мастерах, о которых Роден практически не слышал, что не удивило бы поэта, если бы он осознал, что его знакомые, его друзья — никто. И как поэт он был невидим в этом пространстве.
Потому что оно полнилось пылающими в павильоне гипсовыми слепками, которые собирали на себе свет, словно фрукты. «У меня болят глаза, да и руки тоже», — написал он жене. После обеда мадам Роден любезно пригласила его заглядывать к ним в гости, как говорится, «в любое время, когда вы будете поблизости», не подозревая, полагаю я, что новый визит Рильке случится уже завтра.
Так закончился второй день.
Затем настал обед. И первый урок, en plein air4. Они впятером сели за козловой стол. Никто из них не представлен. Там была уставшего вида, нервная и рассеянная леди, которую Рильке принял за мадам Роден. Там был Француз, примечательный своим красным носом, и «очень милая девочка приблизительно десяти лет», которая сидела прямо напротив него. Родену, одетому для города, не терпится приступить к трапезе. Мадам отвечает потоком явного недовольства. Рильке начинает наблюдать, — Regard! Regard!5 — новая команда, — и видит, как мадам подталкивает вилки, тарелки, бокалы, наводя на столе беспорядок, как после законченной трапезы. «Сцена была не болезненной, всего лишь грустной», — пишет он. Мастер продолжает жаловаться, спокойно, как юрист, пока не приходит грязноватый человек, чтобы распределить еду, а затем настаивает, чтобы Рильке попробовал блюда, которые тот пробовать не хочет. Поэт должен был быть голодным — он был на взводе, но также излишне привередлив, своего рода веган, примечательный знак его воздушной натуры. Роден одобрительно тарахтел. Рильке говорил о своих днях в колонии художников Ворпсведе и о встреченных мастерах, о которых Роден практически не слышал, что не удивило бы поэта, если бы он осознал, что его знакомые, его друзья — никто. И как поэт он был невидим в этом пространстве.
Потому что оно полнилось пылающими в павильоне гипсовыми слепками, которые собирали на себе свет, словно фрукты. «У меня болят глаза, да и руки тоже», — написал он жене. После обеда мадам Роден любезно пригласила его заглядывать к ним в гости, как говорится, «в любое время, когда вы будете поблизости», не подозревая, полагаю я, что новый визит Рильке случится уже завтра.
Так закончился второй день.
—
Нет ничего более хрупкого, чем восхищение, однако восхваление Рильке могло бы стать таким же покровом, как оконная занавеска, мило украшающая грязное окно, если бы он не опустился до жизни отщепенца. Бедный, одинокий, он искал убежища от недружелюбных улиц Парижа в Национальной библиотеке, чаще всего с пяти до десяти; или бежал на поезде в Мёдон под укрытие его оштукатуренных стен, которые были ему милее, — хотя и ослепляли, — чем попрошайки, предлагавшие свои несчастья за франк; а вечерами он коротал время в тесноте своей комнаты, сочиняя письма жене, такие заброшенно-прекрасные, какими только могут быть письма. Поэт был, кроме прочего, неадекватно образованным юношей, игравший поэта даже в те дни, когда не был таковым, и стремящийся объединить свой дух с духом своей поэзии, чтобы жить в нескольких футах над землей. Однако великий скульптор оказался неотесанным, грубым клоуном, сатиром в халате, утратившим опору, пойманным в ловушку женских попустительства и лести, чтобы в итоге быть обведенным вокруг пальца (по оценке Кеннета Кларка), как танцующий медведь. Так что преданность потребовала бы от Рильке отделить человека от его искусства, что легче Соломону постановить, чем ребенку вынести, и что противоречило его наклонностям.
Более того, фрагменты, так лелеемые им в мастерской Родена, живые в каждой определяющей их линии, столкнулись с уродливыми реалиями, бедные создания, которые с каждым днем все более походили на него.
Более того, фрагменты, так лелеемые им в мастерской Родена, живые в каждой определяющей их линии, столкнулись с уродливыми реалиями, бедные создания, которые с каждым днем все более походили на него.
Они жили, жили в ничто, в пыли, копоти и грязи, покрывающей их, на том, что выпало меж собачьих зубов, на любой бесчувственно сломанной вещи, которую каждый мог купить по непостижимой причине. О, что это за мир! Куски, обломки людей, части животных, остатки некогда бывших вещей, и все до сих пор напряжено, будто в сумбуре от зловещего ветра, захвачено и несомо, падает, при падении обгоняя друг друга.
В этих строках, написанных в Ворпсведе следующим летом, он пережил, к удовлетворению бывшей любовницы, свои парижские страдания. Рильке также репетировал то, что станет волшебными открывающими страницами его романа, «Записки Мальте Лауридса Бригге». Стоит процитировать еще немного, чтобы показать психологически значимую разницу между эйфорически праздничным стилем первой монографии о Родене и ежедневным умонастроением ее автора.
Там были старушки, которые ставили тяжелую корзину на выступ какой-нибудь стены (крохотные женщины, чьи глаза высыхали, словно лужицы), и когда они хотели снова взяться за нее, из их рукавов медленно и торжественно высовывался длинный ржавый крюк вместо руки, и он опускался прямо и уверенно к ручке корзины. А были и другие старушки, которые ходили с ящиками старого прикроватного столика в руках, показывая всем, что внутри перекатываются двадцать ржавых булавок, которые они должны продать. И вот однажды поздним осенним вечером рядом со мной стояла маленькая старушка в свете витрины магазина. Она стояла неподвижно, и я подумал, что она, как и я, была занята разглядыванием выставленных предметов, и не обратил на нее особого внимания. В конце концов, однако, мне стало не по себе от ее близости, и, не знаю почему, я вдруг взглянул на ее странно сжатые, изможденные руки. Бесконечно медленно старый, длинный, тонкий карандаш поднимался из этих рук, он рос и рос, и прошло очень много времени, прежде чем он стал виден полностью, виден во всей своей убогости. Я не могу сказать, что в этой сцене произвело на меня такое ужасное впечатление, но казалось, что передо мной разыгрывается целая судьба, долгая судьба, катастрофа, и она зловеще нарастала до того момента, пока карандаш не перестал расти и, слегка дрожа, выступил из одиночества этих пустых рук. Наконец-то я понял, что должен был его купить.
В романе Мальте постепенно с ужасом осознает, что стал Соучастником, еще одним убогим человеком с улицы.
Когда я заметил, что одежда моя становилась грязнее и тяжелее от недели к неделе, и увидел порезы во многих местах, то испугался и ощутил, что буду безвозвратно принадлежать пропащим, если какой-нибудь прохожий едва бросит на меня взгляд и бессознательно причислит к ним.
Возможно, когда ты попрошайничаешь только у лучших семей и великолепнейших институтов, то можешь зваться сотрудником по вопросам развития, но там, где Рильке жил сейчас, не было ни банков, ни роскошных поместий, населенных впечатлительными титулованными дамами, только asiles de nuit6, Отель-Дьё и прочие hospices dela maternité7.
Путь в Париж был извилистым, больше результат блуждания, нежели плана. На Рождество, двумя годами ранее, Рильке вернулся в Прагу навестить свою мать, что для него неизменно было испытанием, пускай Санта принес ему в этот раз новый портфель, и по пути домой он остановился в Бреслау, проведать историка искусства Рихарда Мутера, который, как он надеялся, мог бы помочь ему в этом обширном поле деятельности, поскольку Рильке теперь подумывал о карьере искусствоведа. Возможно, Мутер поможет ему совместить этот свежий, но отчаянный интерес с поездкой в Россию, которая была в планах у Рильке. Для него уже вторую по счету. В то время Мутер был редактором нескольких страниц венского еженедельника Цайт, посвященных искусству, и он предложил Рильке написать что-нибудь о русском искусстве. Рильке немедленно это исполнил, а после завершения своего путешествия написал еще одну статью.
Их следующая встреча состоялась в коттедже молодоженов неподалеку от колонии художников Ворпсведе, близ Бремена. Вот-вот должно было появиться второе эссе Рильке. Мутер только что закончил работу над монографией о Лукасе Кранахе и отправил копию перед своим приездом. Хозяева дома показали ему мастерские и познакомили с художниками в рамках культурного обмена. Несколько месяцев спустя Мутер получит свою рецензию, а Рильке — поручение написать о Родене. В этом отношении он обладал преимуществом, которое молодость и неопытность не могут свести на нет: его жена Клара сама была скульптором, она училась у Мастера, и поэтому они задумывали работать над статьей вместе. Старые связи Клары предположительно могли облегчить entrée8.
Рильке не терпелось покинуть этот дом для новобрачных с его милой соломенной крышей, который утратил большую часть своего очарования после того, как Клара родила. Малыши позволяют женам ощутить, что они исполнили половой долг, а мужьям — что они предупреждены: отныне домашнее хозяйство будет хозяйствовать и над ними. Кларе также не терпелось приступить к работе, и в конце концов она присоединится к Рильке в его парижской нищете после того, как оставит маленькую Рут с бабушкой. (Слово «присоединится» подразумевает большую близость, чем было на самом деле, поскольку они жили раздельно.) Заказ следовало выполнить поскорее, потому что средства супругов были почти на исходе, и, хотя Клара настаивала на том, чтобы самой платить за себя, благотворительные притоки к средствам Рильке постепенно иссякали.
Рильке учился на ходу. Он не обладал академическими навыками. Столкнувшись с массой материалов, он, как правило, замирал. «Вместо того, чтобы сосредоточенно и эффективно делать заметки по тексту, он постоянно испытывал искушение переписать всю книгу целиком». Хватало фактов, которые он вполне мог знать, ведь они витали в воздухе, были известны из газет или почерпнуты им из воспоминаний Клары. Но кое-что из того, что, как ему казалось, он знал, было ложью, и кое-что из того, что Роден рассказывал о себе, не соответствовало действительности: например, то, что он женился «parce qu'il faut avoir une femme»9, ведь он вовсе не хотел жениться на Розе Бёре, женщине, с которой жил — вне брака — с 1864 года, когда она стала его моделью и любовницей, до тех пор, пока их приближающаяся смерть не заставила задуматься о том, чтобы узаконить их отношения. (Роза умерла в феврале 1917 года, он — в ноябре.)
Распутник с рождения, Роден, по-видимому, постоянно нуждался в женщине… или двух. В ожидании сессии позирования пара моделей, обнаженная полностью или на грани, могла слоняться по студии. Когда приступали, им часто приходилось принимать и сохранять атлетически напряженные эротические позы в течение долгого времени, пока он делал зарисовки — уютно закутавшись в плед — в комнате, которую Роза сохраняла прохладной, чтобы сэкономить несколько су и подавить влечение, хотя нередко Роден работал в парижском Dépôt des Marbres10,с большей осмотрительностью и поближе к своим моделям. «Во время работы вокруг него постоянно перемещалось несколько обнаженных моделей. Он наблюдал, как они двигались, подобно греческим гимнасткам, — знакомясь с человеческим телом и мышцами в движении». Иногда он настаивал на том, чтобы они ласкали друг друга. Его художественное оправдание этих практик состояло в том, что с их помощью женщины обнажались психологически, а не только бедрами и грудями. Рильке, как и следовало ожидать, придал этим образам феминистский оттенок. Упоминая фигуры на «Вратах ада», он говорит: «Здесь женщина больше не животное, которое подчиняют или одолевают. Она слишком бодра и одушевлена желанием, как будто они оба объединили усилия в поисках своих душ». В те моменты, когда модели двигались или замирали во время жеста, художник работал с огромной скоростью, листы с рисунками буквально вылетали из его блокнота и рассыпались по полу. В более спокойные минуты он добавлял к графиту немного красок. Роден не только не скрывал своих эротических рисунков от менее непредвзятых глаз, но даже не раз их выставлял. В музее Родена хранятся тысячи таких набросков. Позже Пикассо продемонстрирует столь же неуемную энергию сладострастия.
Безо всякого предупреждения маэстро на несколько недель исчезал из поля зрения Розы.
Путь в Париж был извилистым, больше результат блуждания, нежели плана. На Рождество, двумя годами ранее, Рильке вернулся в Прагу навестить свою мать, что для него неизменно было испытанием, пускай Санта принес ему в этот раз новый портфель, и по пути домой он остановился в Бреслау, проведать историка искусства Рихарда Мутера, который, как он надеялся, мог бы помочь ему в этом обширном поле деятельности, поскольку Рильке теперь подумывал о карьере искусствоведа. Возможно, Мутер поможет ему совместить этот свежий, но отчаянный интерес с поездкой в Россию, которая была в планах у Рильке. Для него уже вторую по счету. В то время Мутер был редактором нескольких страниц венского еженедельника Цайт, посвященных искусству, и он предложил Рильке написать что-нибудь о русском искусстве. Рильке немедленно это исполнил, а после завершения своего путешествия написал еще одну статью.
Их следующая встреча состоялась в коттедже молодоженов неподалеку от колонии художников Ворпсведе, близ Бремена. Вот-вот должно было появиться второе эссе Рильке. Мутер только что закончил работу над монографией о Лукасе Кранахе и отправил копию перед своим приездом. Хозяева дома показали ему мастерские и познакомили с художниками в рамках культурного обмена. Несколько месяцев спустя Мутер получит свою рецензию, а Рильке — поручение написать о Родене. В этом отношении он обладал преимуществом, которое молодость и неопытность не могут свести на нет: его жена Клара сама была скульптором, она училась у Мастера, и поэтому они задумывали работать над статьей вместе. Старые связи Клары предположительно могли облегчить entrée8.
Рильке не терпелось покинуть этот дом для новобрачных с его милой соломенной крышей, который утратил большую часть своего очарования после того, как Клара родила. Малыши позволяют женам ощутить, что они исполнили половой долг, а мужьям — что они предупреждены: отныне домашнее хозяйство будет хозяйствовать и над ними. Кларе также не терпелось приступить к работе, и в конце концов она присоединится к Рильке в его парижской нищете после того, как оставит маленькую Рут с бабушкой. (Слово «присоединится» подразумевает большую близость, чем было на самом деле, поскольку они жили раздельно.) Заказ следовало выполнить поскорее, потому что средства супругов были почти на исходе, и, хотя Клара настаивала на том, чтобы самой платить за себя, благотворительные притоки к средствам Рильке постепенно иссякали.
Рильке учился на ходу. Он не обладал академическими навыками. Столкнувшись с массой материалов, он, как правило, замирал. «Вместо того, чтобы сосредоточенно и эффективно делать заметки по тексту, он постоянно испытывал искушение переписать всю книгу целиком». Хватало фактов, которые он вполне мог знать, ведь они витали в воздухе, были известны из газет или почерпнуты им из воспоминаний Клары. Но кое-что из того, что, как ему казалось, он знал, было ложью, и кое-что из того, что Роден рассказывал о себе, не соответствовало действительности: например, то, что он женился «parce qu'il faut avoir une femme»9, ведь он вовсе не хотел жениться на Розе Бёре, женщине, с которой жил — вне брака — с 1864 года, когда она стала его моделью и любовницей, до тех пор, пока их приближающаяся смерть не заставила задуматься о том, чтобы узаконить их отношения. (Роза умерла в феврале 1917 года, он — в ноябре.)
Распутник с рождения, Роден, по-видимому, постоянно нуждался в женщине… или двух. В ожидании сессии позирования пара моделей, обнаженная полностью или на грани, могла слоняться по студии. Когда приступали, им часто приходилось принимать и сохранять атлетически напряженные эротические позы в течение долгого времени, пока он делал зарисовки — уютно закутавшись в плед — в комнате, которую Роза сохраняла прохладной, чтобы сэкономить несколько су и подавить влечение, хотя нередко Роден работал в парижском Dépôt des Marbres10,с большей осмотрительностью и поближе к своим моделям. «Во время работы вокруг него постоянно перемещалось несколько обнаженных моделей. Он наблюдал, как они двигались, подобно греческим гимнасткам, — знакомясь с человеческим телом и мышцами в движении». Иногда он настаивал на том, чтобы они ласкали друг друга. Его художественное оправдание этих практик состояло в том, что с их помощью женщины обнажались психологически, а не только бедрами и грудями. Рильке, как и следовало ожидать, придал этим образам феминистский оттенок. Упоминая фигуры на «Вратах ада», он говорит: «Здесь женщина больше не животное, которое подчиняют или одолевают. Она слишком бодра и одушевлена желанием, как будто они оба объединили усилия в поисках своих душ». В те моменты, когда модели двигались или замирали во время жеста, художник работал с огромной скоростью, листы с рисунками буквально вылетали из его блокнота и рассыпались по полу. В более спокойные минуты он добавлял к графиту немного красок. Роден не только не скрывал своих эротических рисунков от менее непредвзятых глаз, но даже не раз их выставлял. В музее Родена хранятся тысячи таких набросков. Позже Пикассо продемонстрирует столь же неуемную энергию сладострастия.
Безо всякого предупреждения маэстро на несколько недель исчезал из поля зрения Розы.
Эти отлучки иногда сопровождались краткими встречами с одной из его натурщиц или с одной из бесчисленных светских дам, чьи аппетиты возбуждала его репутация любовника. Но когда, чтобы оправдаться, Роден вывешивал на двери озаглавленной литерой «J» студии в Dépôt des Marbres табличку с надписью «СКУЛЬПТОР НАХОДИТСЯ В СОБОРАХ», это означало, что иногда он и в самом деле их посещал.
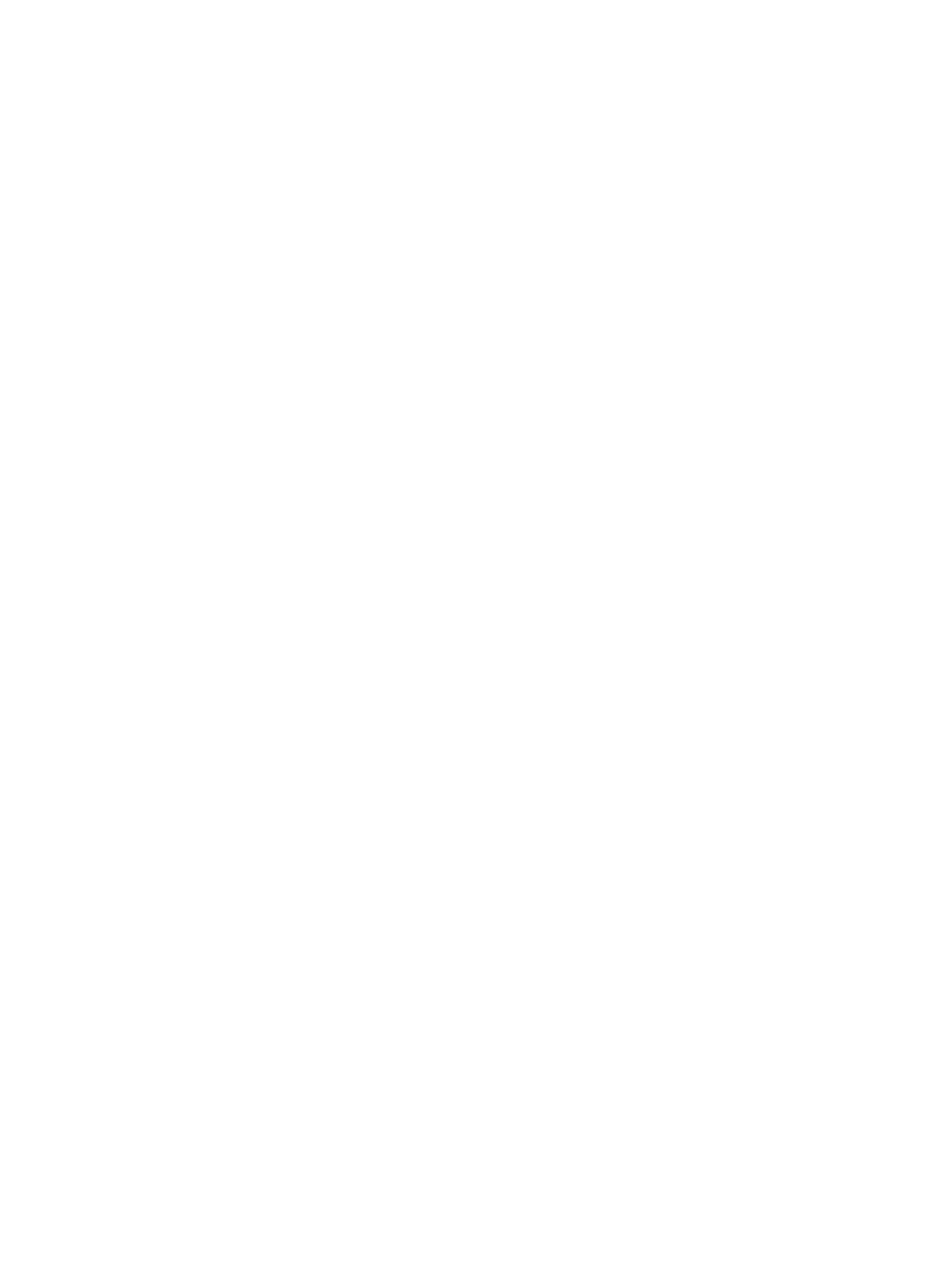
За четыре года до приезда Рильке Роден разорвал продолжительный роман с Камиллой Клодель — одаренной сестрой великого поэта и драматурга Поля Клоделя и великолепным скульптором, — что имело катастрофические последствия для Камиллы, которую пришлось поместить в психиатрическую больницу, хотя, несомненно, у ее параноидальных галлюцинаций были и другие причины. Между ней и Розой слова переходили в драку, и говорят (те, кто обычно говорит такие вещи), что у Камиллы была привычка прокрадываться через заросли и что Роза однажды выстрелила в сторону такого растительного укрытия. Брат Камиллы, чей католицизм занимал центральное место в его творчестве, был христианином не настолько, чтобы простить скульптору столь длительное злоупотребление своей сестрой, но в данном случае снисходительность могла стать ошибкой.
Что касается Родена, то он был близорук: с большими глазами навыкате, как у развратника. Когда он работал, его нос был направлен сразу и на модель, и на глину. Я сказал «его нос»? Скорее, кабанья морда, за которой скрывалась пара ледяных голубых зрачков. Во всех его скульптурах вы видите, как его нос работает в паре с рукой, и иногда вы замечаете, что лицо появляется из самой середины пятерни. Он использует весь блок целиком. У него все компактно, массивно. Именно пластичная масса создает единство. Его конечности, как правило, только мешают.
Как же это отличается от легкой, воздушной руки моей сестры, от ощущения волнения, от постоянного присутствия духа, от замысловатых и чувствительных завитков, от воздушности и игры внутреннего света11!
Как же это отличается от легкой, воздушной руки моей сестры, от ощущения волнения, от постоянного присутствия духа, от замысловатых и чувствительных завитков, от воздушности и игры внутреннего света11!
Во время посещения Рильке Роден познакомился с Гвен, еще одной сестрой, на этот раз Огастеса Джона. Она пережила схожий опыт и стала талантливой художницей, хотя так и не вышла замуж, а маленькая деревушка Мёдон крепко привязала ее к себе на всю жизнь. Благодаря письмам Гвен Джон мы можем проследить за развитием их романа и получить представление о том, сколь многие из этих любовей, должно быть, пошли по схожему пути, потому что, если для каждой из женщин роман был уникальным, то для художника, который всегда занимал ведущую роль — лишь устоявшейся рутиной. Будучи девочками, они приехали в Париж, чтобы сделать карьеру в искусстве; они искали работу в качестве моделей, чтобы заработать на жизнь; иногда они позировали художнику, который позировал Родену, и таким образом добивались знакомства. В случае с Гвен именно ее гибкость изначально привлекла Мастера, хотя у других женщин, несомненно, были свои особые качества. Вскоре он стал обращать на нее внимание, одалживал ей книги, просил сделать копии некоторых отмеченных им отрывков, а затем — le coup de coeur12 — просил показать ее работы. Однажды, когда она стояла полуобнаженной, с поднятым коленом и склоненной головой, в гарцующей позе, для мемориальной статуи Уистлера, последовал поцелуй. «Я чувствую, как по моим губам пробегают ощущения таинственности и опьянения», — сказала она ему. Гвен будет мечтать о том, чтобы отказаться от всего ради него (особенно от своей карьеры), стать его женой, взять на себя его материальные заботы и, хотя она не отличалась аккуратностью и предприимчивостью, организовать его жизнь. Для выполнения последней задачи Роден будет уговаривать и умасливать Райнера Марию Рильке.
В двух своих монографиях Рильке коснется этих вопросов так осторожно, что даже сам не признается в собственных познаниях; но противоречие между жизнью Родена, полной вздорности, обмана и чувственного потворства своим желаниям, и его всепоглощающей преданностью искусству; разница между пыльной материальностью мастерской и ее очевидным продуктом — возникающие из глины изобильные красота и изящество, безмятежная прохлада мрамора, мерцающего, как свет в бокале с водой, высокие идеалы, воплощенные в гипсовых слепках, — эти воинственные контрасты пронизывают каждую строчку эссе поэта, где Рильке призывает к благоговению, чтобы отогнать смятение, точно так же, как они пронизывают каждую поверхность скульптур художника, включая версию мемориала Бальзаку, на которой писатель изображен с эрекцией. После того как Джордж Бернард Шоу позировал Родену для своего бюста, он написал, что «самой живописной деталью его метода было то, как он набирал в рот большой глоток воды и выплевывал ее на глину, чтобы та оставалась постоянно податливой. Поглощенный своей работой, он не всегда хорошо прицеливался и промочил мою одежду».
Во время следующего визита Рильке Роден проводил занятия. После обеда, который во всем, кроме меню, напоминал первый, они сели на скамейку, откуда открывался прекрасный вид на Париж, и Роден рассказал о своей работе и ее принципах. Рильке приходится бежать за быстрым французским языком Родена, как за уходящим автобусом. Работа скульптора — ручная, как у плотника или каменщика, и он создает объекты, непохожие на служебные записки офисного клерка; следовательно, для молодежи это призвание утратило свою привлекательность. Они не хотят пачкать руки, но «il faut travailler, rien que travailler»13, — любит он повторять. На самом деле Роден практически не занимался резьбой по дереву (и сваркой, конечно, тоже), хотя говорят, что ему нравилось встречать людей у дверей, с головы до ног покрытым пылью и сжимающим в руках стамеску. Его работы из бронзы и мрамора были отлиты рабочими, которых он редко видел. Анри Лебоссе увеличивал гипсовые модели скульптора до размеров, подходящих для общественного памятника. Роден жалуется, что в школах «детей сейчас учат» композировать — делать упор на контур, а не моделировать и придавать форму поверхностям. «Ce n’est pas la forme de l’object, mais: le modelé14… Руки Родена были его основными инструментами, и с их помощью он схлопывал, выдавливал и разглаживал, делая изгибы и прямые линии волнистыми, позволяя плечам перетекать в торсы, а торсам выходить из блоков (даже если они этого не делали), побуждая локти проявлять свою индивидуальность, его пальцы повсюду заняты созданием впечатления жизни, придавая силу и волю гипсу, воздушность и одухотворенность камню.
Не всем такое по вкусу: Роден возлагал на свои работы революционные надежды, и поначалу их мало кто разделял. Любители античного искусства видели в фигуре Афродиты воплощение Любви. Она была мифологической богиней и, следовательно, никогда не существовала, поэтому ее можно было рассматривать только как идеал. Ее бедра должны были быть гладкими, как очищенная веточка, но более мясистыми и округлыми. Поскольку, как и в случае с Гамлетом или Иисусом, никто не знал, как выглядит Любовь, ее облик и все ее символы в конечном итоге приобрели общий статус (Иисус высокий, светловолосый и худой); но этот стереотип никогда не был чем-то особенным, тем примером, который вы могли бы встретить на улице; вместо этого все его существо было посвящено всеобщему служению. Однако для любителей христианских образов Марк и другие учителя Завета, оставаясь в тех рамках, которые создали вокруг них люди, и представляя собой идеалы религии, а также фигуры христианской истории, тем не менее, должны были быть изображены как реальные люди. Иисус, возможно, и стал козлом отпущения, но его не следует идеализировать настолько, чтобы он оказался просто жертвой. Другой пример: многие сопрано должны быть способны сыграть Мими из «Богемы»; если кто-то из них не сможет достичь ее изможденности, то актеры, съемочная группа и посетители притворятся, что наблюдают за пением самой роли, а не за ее исполнительницей. Отступления Родена от этих норм ощущались задолго до того, как они были сформулированы. Где бы мы заметили походку «Шагающего человека»? В самой ходьбе? В конкретной такой походке среди многих других? В привычной поступи для занимающегося физкультурой человека? И особенно во время его утренней зарядки? Эта удивительная фигура является выражением особого вида мышечных движений, в которых проявляется воля человека даже без самого человека. Эти ноги ходят сами по себе. Через луга. По улицам. Сквозь стены. Потрепанный торс — рукоять вилки ног.
В двух своих монографиях Рильке коснется этих вопросов так осторожно, что даже сам не признается в собственных познаниях; но противоречие между жизнью Родена, полной вздорности, обмана и чувственного потворства своим желаниям, и его всепоглощающей преданностью искусству; разница между пыльной материальностью мастерской и ее очевидным продуктом — возникающие из глины изобильные красота и изящество, безмятежная прохлада мрамора, мерцающего, как свет в бокале с водой, высокие идеалы, воплощенные в гипсовых слепках, — эти воинственные контрасты пронизывают каждую строчку эссе поэта, где Рильке призывает к благоговению, чтобы отогнать смятение, точно так же, как они пронизывают каждую поверхность скульптур художника, включая версию мемориала Бальзаку, на которой писатель изображен с эрекцией. После того как Джордж Бернард Шоу позировал Родену для своего бюста, он написал, что «самой живописной деталью его метода было то, как он набирал в рот большой глоток воды и выплевывал ее на глину, чтобы та оставалась постоянно податливой. Поглощенный своей работой, он не всегда хорошо прицеливался и промочил мою одежду».
Во время следующего визита Рильке Роден проводил занятия. После обеда, который во всем, кроме меню, напоминал первый, они сели на скамейку, откуда открывался прекрасный вид на Париж, и Роден рассказал о своей работе и ее принципах. Рильке приходится бежать за быстрым французским языком Родена, как за уходящим автобусом. Работа скульптора — ручная, как у плотника или каменщика, и он создает объекты, непохожие на служебные записки офисного клерка; следовательно, для молодежи это призвание утратило свою привлекательность. Они не хотят пачкать руки, но «il faut travailler, rien que travailler»13, — любит он повторять. На самом деле Роден практически не занимался резьбой по дереву (и сваркой, конечно, тоже), хотя говорят, что ему нравилось встречать людей у дверей, с головы до ног покрытым пылью и сжимающим в руках стамеску. Его работы из бронзы и мрамора были отлиты рабочими, которых он редко видел. Анри Лебоссе увеличивал гипсовые модели скульптора до размеров, подходящих для общественного памятника. Роден жалуется, что в школах «детей сейчас учат» композировать — делать упор на контур, а не моделировать и придавать форму поверхностям. «Ce n’est pas la forme de l’object, mais: le modelé14… Руки Родена были его основными инструментами, и с их помощью он схлопывал, выдавливал и разглаживал, делая изгибы и прямые линии волнистыми, позволяя плечам перетекать в торсы, а торсам выходить из блоков (даже если они этого не делали), побуждая локти проявлять свою индивидуальность, его пальцы повсюду заняты созданием впечатления жизни, придавая силу и волю гипсу, воздушность и одухотворенность камню.
Не всем такое по вкусу: Роден возлагал на свои работы революционные надежды, и поначалу их мало кто разделял. Любители античного искусства видели в фигуре Афродиты воплощение Любви. Она была мифологической богиней и, следовательно, никогда не существовала, поэтому ее можно было рассматривать только как идеал. Ее бедра должны были быть гладкими, как очищенная веточка, но более мясистыми и округлыми. Поскольку, как и в случае с Гамлетом или Иисусом, никто не знал, как выглядит Любовь, ее облик и все ее символы в конечном итоге приобрели общий статус (Иисус высокий, светловолосый и худой); но этот стереотип никогда не был чем-то особенным, тем примером, который вы могли бы встретить на улице; вместо этого все его существо было посвящено всеобщему служению. Однако для любителей христианских образов Марк и другие учителя Завета, оставаясь в тех рамках, которые создали вокруг них люди, и представляя собой идеалы религии, а также фигуры христианской истории, тем не менее, должны были быть изображены как реальные люди. Иисус, возможно, и стал козлом отпущения, но его не следует идеализировать настолько, чтобы он оказался просто жертвой. Другой пример: многие сопрано должны быть способны сыграть Мими из «Богемы»; если кто-то из них не сможет достичь ее изможденности, то актеры, съемочная группа и посетители притворятся, что наблюдают за пением самой роли, а не за ее исполнительницей. Отступления Родена от этих норм ощущались задолго до того, как они были сформулированы. Где бы мы заметили походку «Шагающего человека»? В самой ходьбе? В конкретной такой походке среди многих других? В привычной поступи для занимающегося физкультурой человека? И особенно во время его утренней зарядки? Эта удивительная фигура является выражением особого вида мышечных движений, в которых проявляется воля человека даже без самого человека. Эти ноги ходят сами по себе. Через луга. По улицам. Сквозь стены. Потрепанный торс — рукоять вилки ног.
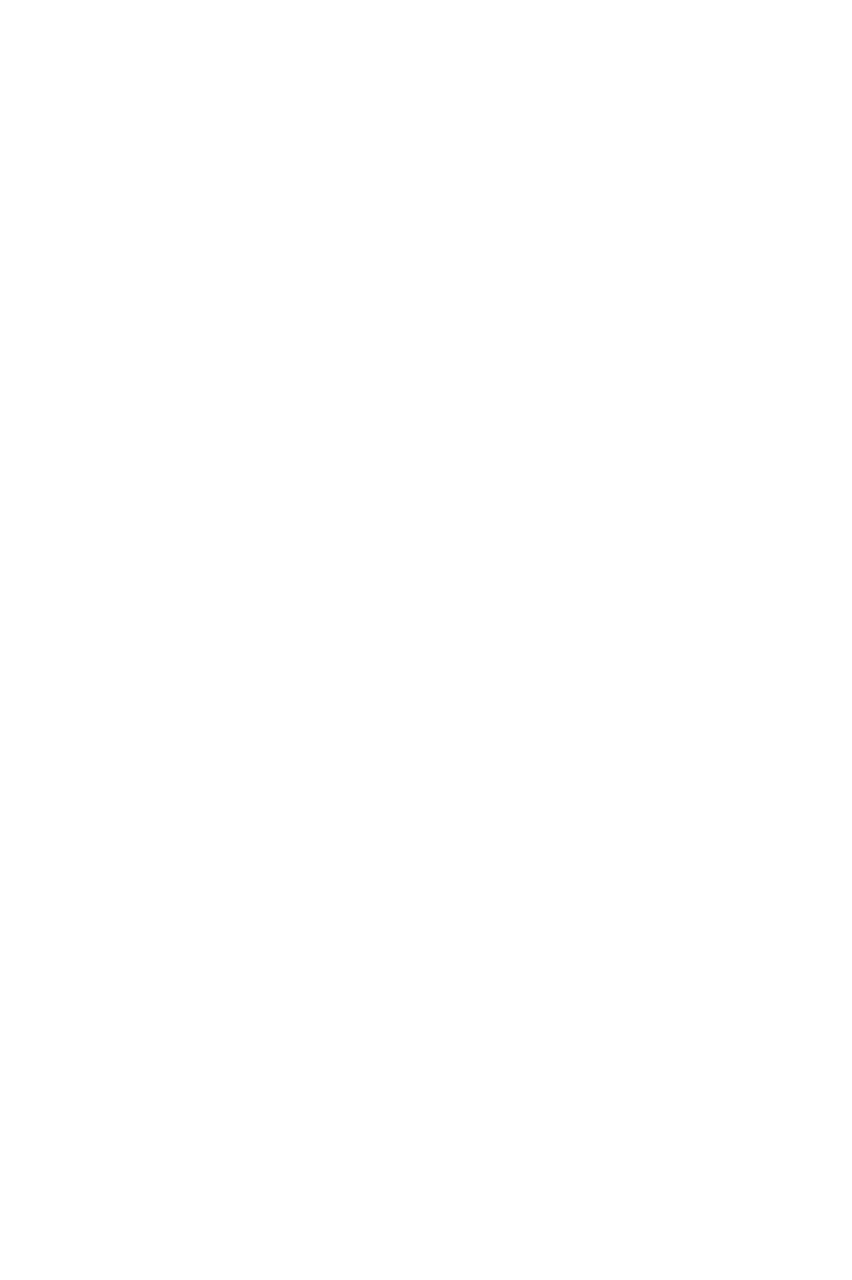
Наконец, выставленный на всеобщее обозрение, «Шагающий человек» является полной противоположностью статуе девятнадцатого века, поскольку в нем отсутствуют старые ценности — идентичность, напористое эго, риторически выраженное моральное послание, завершенность деталей и стабильность. Больше, чем любая другая работа Родена, эта скульптура поражает зрителя силой движения… Ни один скульптор до Родена не создавал такого простого события, как ходьба, подчеркивая исключительность своего искусства и поднимая его на уровень высокой драмы.
По мере того, как развивался стиль Родена, росли и жалобы. «Бронзовый век» ощущался настолько реалистичным, что должен бы быть сделан по слепку с тела. «Шагающий человек» уличил скульптора в расчленении. «Мужчина со сломанным носом», «Скорчившаяся женщина» и «Старая куртизанка» были нападками на соответствующих им субъектов, намеренно вызывающими отвращение, или извращенными попытками сделать уродливое привлекательным. «Поцелуй» был чересчур сексуальным или слишком красивым, а «Мыслитель» — банальным, или, что еще хуже, туалетной шуткой школяра. «Врата ада» в итоге оказались дорогой мешаниной. «Граждане Кале» были слишком печальны; памятник изображал их недостаточно храбрыми. А его терракотовый эскиз «Призыва к оружию», предложенный в память о франко-прусской войне, оказался настолько страстным, что его не приняли к рассмотрению. Великий задрапированный «Бальзак» не походил на Бальзака, в то время как обнаженный «Бальзак» сочли оскорблением писателя, его искусства и его публики. Бальзаки, в частности, вызывали негодование.
Его по-разному обвиняли в том, что он изобразил писателя в виде пингвина, снеговика, мешка с углем, менгира, призрака, колоссального зародыша и бесформенной личинки. Среди других критических замечаний имелись обвинения в том, что «Бальзак» был сведен к роли актера в гигантском гиньоле, что он только встал с постели, чтобы встретиться лицом к лицу с кредитором, или что подвергать публику столь неумелому обращению с пропорциями и физическому искажению было равносильно эффекту разорвавшейся бомбы.
Еще в 1932 году Р. Х. Виленски в своей книге «Значение современной скульптуры» утверждал, что «интерес Родена, когда он создавал скульптуру Бальзака, был сосредоточен на голове. Уберите голову — и у нас не останется ничего, кроме бесформенного месива». Виленски приводит иллюстрацию, на которой он совершил обезглавливание.
Утверждалось, что импрессионистский стиль Родена больше подходит для живописи, чем для скульптуры, хотя изначально импрессионистов так же не одобряли; более того, он, по-видимому, нарушал модернистское правило, согласно которому произведение должно отражать природу материалов и их обработки, но в чем, как не в глине, могли проявиться его модуляции, а конечности — легко смешаться? Правда состояла в том, что целью Родена было превратить свои материалы в нечто онтологически живое — в конце концов, разве Бог не превратил грязь в человека?
Эли Фор при помощи красноречия, отточенного на тысячах страниц его «Истории искусства», указывает на ошибки Родена.
Утверждалось, что импрессионистский стиль Родена больше подходит для живописи, чем для скульптуры, хотя изначально импрессионистов так же не одобряли; более того, он, по-видимому, нарушал модернистское правило, согласно которому произведение должно отражать природу материалов и их обработки, но в чем, как не в глине, могли проявиться его модуляции, а конечности — легко смешаться? Правда состояла в том, что целью Родена было превратить свои материалы в нечто онтологически живое — в конце концов, разве Бог не превратил грязь в человека?
Эли Фор при помощи красноречия, отточенного на тысячах страниц его «Истории искусства», указывает на ошибки Родена.
Часто — слишком часто, увы! — жесты становятся искаженными, неудачная идея выйти за рамки пластики и погони за символами создает группы, в которых объединяющие фигуры разрозненны; объемы вылетают из орбит, позы становятся невозможными — и во всем этом буквальном раздрае энергия художника тает, как воск в огне. Даже в свои лучшие дни он живет и работает короткими пароксизмами, когда жжение вспышками пронизывает его.
Как я уже пытался предположить, многие заблуждения, которые, по словам Рильке, составляют славу Родена, были вызваны социальными скандалами, и имя скульптора до конца его жизни продолжало обрастать непристойными слухами; но в то же время его известность привлекла к нему многих не менее известных персон, что принесло с собой отдельную порцию клеветы, сплетен и прославления. Айседора Дункан утверждает, что хочет иметь от него гениальных детей, а Лои Фуллер с удовольствием обмотала бы свое тело разноцветными лентами, пока он бы ее рисовал15. Элеонора Дузе будет читать стихи в Отеле Бирон, а Ванда Ландовска сыграет Баха на клавесине, привезенном специально для этого случая. Тем временем пресса с удовольствием публикует пасквили разного рода, а карикатуры Сема и Белона забавляют публику. На одной из них Роден изображен отрывающим руки и ноги у женской фигуры. Полагаю, от нас требовалось представить, что к тому моменту ее уже не было в живых. На другом рисунке, который называется «Местность Родена», изображен сад с оторванными головами и обнимающимися телами.
Дни Мёдона близятся к концу. Рильке читает газетные вырезки Родена в маленьком парке виллы и наслаждается видами сада, будто с открытки, или прогуливается по деревенским склонам к густому лесу, где может поразмышлять в одиночестве, избавившись от навязчивого присутствия Парижа или неосязаемого — Родена. Среди его желаний: взять с собой свежий лесной воздух в город, где стоит гнетущая жара, а атмосфера зловонна, затхла и тяжела. Он прижимается лицом к ограде Люксембургского сада подобно тюремному заключенному, и даже цветы в клумбах чувствуют себя скованно.
11 сентября Рильке делает нечто настолько откровенное, что это почти перестает быть хитростью. Он пишет Родену письмо. Словно влюбленный, он объясняет, что из-за плохого владения французским языком ему трудно выражаться так, как ему хотелось бы, а тщательность, с которой он готовит свои вопросы, заставляет их казаться надуманными и неуместными; поэтому он присылает несколько стихов на французском в надежде, что они приблизят их друг к другу. После привычных любезностей Рильке сознается: «Я пришел к вам не только для того, чтобы провести исследование, но и для того, чтобы спросить вас: как нужно жить?» В ответ мы услышали: «il faut travailler»16. Однако Рильке говорит, что он всегда ждал зова музы, ждал того, что он называет творческим часом, ждал вдохновения. Он пытался привить себе привычку к трудолюбию, но теперь он знает, что должен попробовать еще раз, попробовать и добиться успеха. К сожалению…
Дни Мёдона близятся к концу. Рильке читает газетные вырезки Родена в маленьком парке виллы и наслаждается видами сада, будто с открытки, или прогуливается по деревенским склонам к густому лесу, где может поразмышлять в одиночестве, избавившись от навязчивого присутствия Парижа или неосязаемого — Родена. Среди его желаний: взять с собой свежий лесной воздух в город, где стоит гнетущая жара, а атмосфера зловонна, затхла и тяжела. Он прижимается лицом к ограде Люксембургского сада подобно тюремному заключенному, и даже цветы в клумбах чувствуют себя скованно.
11 сентября Рильке делает нечто настолько откровенное, что это почти перестает быть хитростью. Он пишет Родену письмо. Словно влюбленный, он объясняет, что из-за плохого владения французским языком ему трудно выражаться так, как ему хотелось бы, а тщательность, с которой он готовит свои вопросы, заставляет их казаться надуманными и неуместными; поэтому он присылает несколько стихов на французском в надежде, что они приблизят их друг к другу. После привычных любезностей Рильке сознается: «Я пришел к вам не только для того, чтобы провести исследование, но и для того, чтобы спросить вас: как нужно жить?» В ответ мы услышали: «il faut travailler»16. Однако Рильке говорит, что он всегда ждал зова музы, ждал того, что он называет творческим часом, ждал вдохновения. Он пытался привить себе привычку к трудолюбию, но теперь он знает, что должен попробовать еще раз, попробовать и добиться успеха. К сожалению…
...в прошлом году у нас были довольно серьезные финансовые проблемы, и они еще не устранены, но теперь я думаю, что усердная работа может снять даже беспокойства о бедности. Моя жена вынуждена на время бросить нашего маленького ребенка, и все же она относится к этой необходимости более спокойно и беспристрастно с тех пор, как я написал ей то, что вы сказали: «Travail et patience»17. Я очень рад, что она будет рядом с вами, рядом с вашей замечательной работой…
Хочу посмотреть, смогу ли я как-то заработать на жизнь здесь, в Париже (для этого мне нужно совсем немного). Если это возможно, я останусь. И это было бы для меня большим счастьем. В противном случае, если у меня не получится, я умоляю вас помочь моей жене так же, как вы помогли мне вашей работой и вашим словом и всеми вечными силами, которых вы Мастер.
Хочу посмотреть, смогу ли я как-то заработать на жизнь здесь, в Париже (для этого мне нужно совсем немного). Если это возможно, я останусь. И это было бы для меня большим счастьем. В противном случае, если у меня не получится, я умоляю вас помочь моей жене так же, как вы помогли мне вашей работой и вашим словом и всеми вечными силами, которых вы Мастер.
У стихов на французском, которые Рильке написал для Родена, есть немецкий брат, потому что в этот же день, без сомнения после той же прогулки по этому же парку он также сочинил одно из двух хорошо известных стихотворений «Книги Часов». Его умонастроение не может быть представлено лучше.
Осень
Вниз падает листва, как будто издалёка,
как будто блекнут в небесах сады,
в паденья жестах — безнадёжности следы,
а по ночам Земля, всей тяжестью беды,
меж звезд вниз падает — о, как же одинока!
И все мы падаем. Как вот моя рука.
И на других взгляни: во всех то ж изумленье…
Но есть Единственный, кто каждое паденье
с бездонной нежностью вбирает как река18.
Вниз падает листва, как будто издалёка,
как будто блекнут в небесах сады,
в паденья жестах — безнадёжности следы,
а по ночам Земля, всей тяжестью беды,
меж звезд вниз падает — о, как же одинока!
И все мы падаем. Как вот моя рука.
И на других взгляни: во всех то ж изумленье…
Но есть Единственный, кто каждое паденье
с бездонной нежностью вбирает как река18.
Несмотря на свои мучение, тревогу, Рильке жадно собирает материал. Эти месяцы будут одними из его самых насыщенных. События, на первый взгляд незначительные, будут кристаллизоваться и объединяться. Вот одно из них. В конце сентября, он пишет Кларе:
В мастерской Родена есть крошечный гипсовый слепок тигра (античный)... которым он очень дорожит… И по этому маленькому гипсовому слепку я понял, что он имеет в виду, также — что такое античность и что связывает его с ней. В модели, в этом животном, чувствуется та же живость, у этого маленького существа (оно не выше моей ладони и не больше моего пальца) сотни тысяч граней, как у очень большого предмета, сотни тысяч граней, которые все живые, одушевленные и разные. И это в гипсе! При этом в высшей степени усиливается выразительность крадущейся походки, мощная посадка широких лап и в то же время та осторожность, в которой заключена вся сила, вся бесшумность19…
Пантера, которую Рильке будет изучать в Ботаническом саду, начала обретать свои слова, как я подозреваю, в виде крошечного гипсового тигра с крадущейся походкой и широкими лапами; прутья ее клетки были позаимствованы из Люксембургского сада, а взгляд — из взгляда самого поэта, так же как и его чувство отчаяния. Сокращенный сонет, по предположению Дж. Б. Лейшмана, был самым ранним из знаменитых стихотворений-вещей (Dinge), характер которых связан с переживаниями Рильке у Родена.
Пантера
Так взгляд устал её от стали этих прутьев,
что ничего уже не может удержать.
Летят вокруг стволы, она их мерит грудью;
а позади — Ничто, и некуда бежать.
Скользит-плывет кошачьим сильным телом,
где всё сужающийся круг неслышно жмёт,
как будто танец силы под прицелом
могучей воли, что из центра пассы шлёт.
Лишь иногда зрачков своих покров
приподнимает, и тогда в них образ входит.
И тишиной идёт он до её основ,
до сердца непостижимых угодий20.
Так взгляд устал её от стали этих прутьев,
что ничего уже не может удержать.
Летят вокруг стволы, она их мерит грудью;
а позади — Ничто, и некуда бежать.
Скользит-плывет кошачьим сильным телом,
где всё сужающийся круг неслышно жмёт,
как будто танец силы под прицелом
могучей воли, что из центра пассы шлёт.
Лишь иногда зрачков своих покров
приподнимает, и тогда в них образ входит.
И тишиной идёт он до её основ,
до сердца непостижимых угодий20.
Поверхности Родена созданы для того, чтобы намекать на реальность, о которой можно только догадываться, точно так же, как пальцы или лицо по жесту или выражению лица раскрывают сознание, которое в противном случае было бы неразличимо. Скульптуры — это вещи: они начинаются как материал, камень или глина, и остаются материалом до тех пор, пока художник не придаст им определенную форму, чтобы благодаря этой форме они могли обрести жизнь. Проблема поэта как раз в обратном. Язык — это наш самый важный признак высокого уровня осознанности, но его присутствие слабо. Хотя он часто встречается на бумаге, он не имеет веса. Стихотворение подобно призраку, ищущему материальности, душе, ищущей тело, более привлекательное, чем голые кости, о которые просто гремят стихи. Следовательно, это не послание в бутылке, как раньше думал Рильке, и не чувства молодого человека, поднятые подобно флагу. У каждого из нас есть эмоции, которые срочно требуют выхода, и у многих из нас есть мнения, которые, на наш взгляд, могли бы принести миру какую-то пользу; однако поэт также должен быть творцом, как утверждали греки, и, подобно скульптору, как и любой другой художник, должен стремиться привнести в мир реальных существ, существ, полностью осознавших себя, — не просто вещи, как инструменты и галантерею, которыми природа пренебрегла, или меморандумы и законы, которые общество производит в изобилии, но Ding an sich, чем люди обычно быть не способны, вещи сами в себе. Странным образом, новая решимость Рильке, вызванная идеями Родена, объединит самые примитивные побуждения поэта — в данном случае анимизм — с его самыми утонченными наклонностями к искусству как цели, искусству, которое стоит отдельно от природы и противостоит ей, поскольку природа не создает и не может создавать его.
Если мы посмотрим на «Ту, которая когда-то была прекрасной женой изготовителя шлемов» (иногда ее называют «Старой куртизанкой»), нам придется испытать несколько необходимых смещений нашей точки зрения. Женщина, которую изображает Роден, старая, сгорбленная, цепляющаяся за скалу, как будто река жизни вот-вот унесет ее прочь, тощая и покрытая шрамами, сплошь из костей и сухожилий, ее ягодицы отвисли, сморщились и стали плоскими, живот вздулся, как сморщенный мешок; но когда-то, как нас попросили поверить, у нее была гладкая кожа, гибкое, сильное тело, с идеально округлыми грудями и роскошными волосами, что ниспадали на спину, словно потоки музыки; и красота тела, как неоригинально утверждает скульптура, сводится к состоянию чернослива, фигуре, сформированной страданиями и возрастом, живой только для того, чтобы удивляться почему.
Если мы посмотрим на «Ту, которая когда-то была прекрасной женой изготовителя шлемов» (иногда ее называют «Старой куртизанкой»), нам придется испытать несколько необходимых смещений нашей точки зрения. Женщина, которую изображает Роден, старая, сгорбленная, цепляющаяся за скалу, как будто река жизни вот-вот унесет ее прочь, тощая и покрытая шрамами, сплошь из костей и сухожилий, ее ягодицы отвисли, сморщились и стали плоскими, живот вздулся, как сморщенный мешок; но когда-то, как нас попросили поверить, у нее была гладкая кожа, гибкое, сильное тело, с идеально округлыми грудями и роскошными волосами, что ниспадали на спину, словно потоки музыки; и красота тела, как неоригинально утверждает скульптура, сводится к состоянию чернослива, фигуре, сформированной страданиями и возрастом, живой только для того, чтобы удивляться почему.
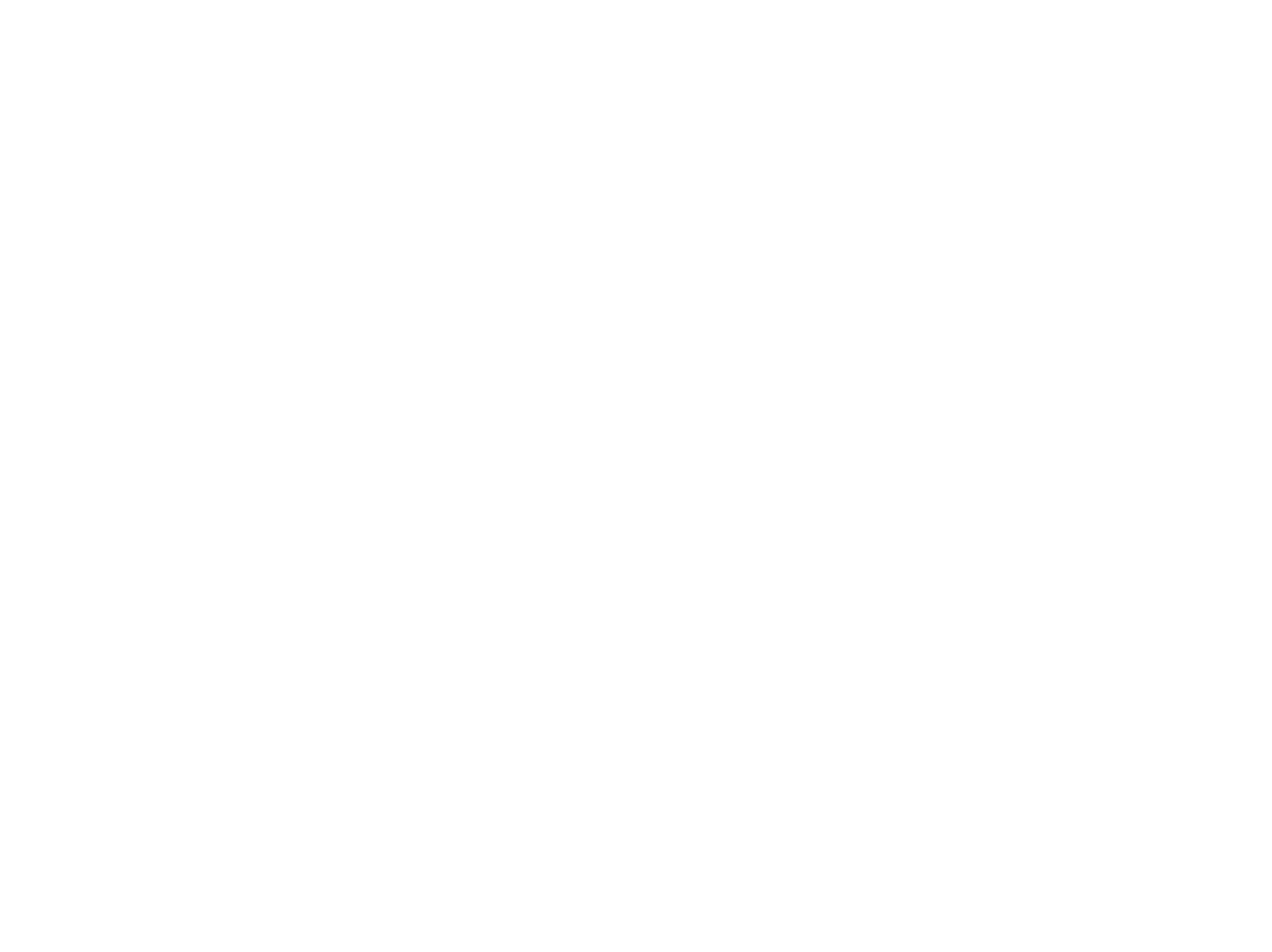
С этого места поверхностные чувства жалости и сожаления доступны как марки в отделении почты, но что самое пронзительное в этом произведении, так это его красота, красота, которую мы могли бы возвеличить, подумав на мгновение, что даже дряхлые шлюхи в этом чудесном мире прекрасны, хотя, конечно, это не так, жестокое обращение берет свое, тяжелая жизнь тоже, и тело — наша первая могила. Именно бронза великолепна; именно бронза напоминает нам о том, что старость и умирание, сама смерть, имеют собственную жизнь, собственные этапы самореализации, собственную ценность и критерии успеха. Стихотворение Бодлера «Падаль», которым восхищались Роден и Рильке, принадлежит к тому же жанру, что и прошлогодние снега Вийона, пыль Рочестера, что застлала Елене глаза, и откопанный череп Йорика, у которого ныне отвалилась челюсть. Оно начинается так:
Ты помнишь, жизнь моя, как позднею весною,
Когда так ласкова заря,
Нам падаль жалкая предстала в луже гноя
На жёстком ложе пустыря?
Наглей распутницы, желаньем распаленной,
Раскинув ноги напоказ,
И тупо выставив распаренное лоно,
Она врасплох застигла нас21.
Когда так ласкова заря,
Нам падаль жалкая предстала в луже гноя
На жёстком ложе пустыря?
Наглей распутницы, желаньем распаленной,
Раскинув ноги напоказ,
И тупо выставив распаренное лоно,
Она врасплох застигла нас21.
Анимизм Рильке, конечно, поэтичен, но в то же время по-своему религиозен, поскольку требует уважения ко всем вещам, равного тому уважению, которое мы склонны проявлять сейчас лишь к немногим, поскольку мы так мало ценим даже те вещи, которые ценим. Это придает ценность, как это делал Роден, каждой части нашей анатомии, каждому движению мышц — растяжению, подергиванию и беспокойству; нашим физическим особенностям — мягкой, как шелк, мочке уха, смуглой конечности или согнутому пальцу; выражению лица — гримасе, улыбке или стону; а также самой глине, из которой мы созданы (по крайней мере, в его мастерской) — деревянного бруска, плиты и гипсового горшка. Более того, это придает даже случайному столкновению разных частей тела — моей руке на твоем плече — собственное достоинство как законному положению вещей. Жесты, выражения лиц, позы, настроения, мысли, внезапные побуждения просто меняются быстрее, чем привычки, установки, убеждения, предрасположенность, и камень может замедлить их, чтобы они соответствовали нашему вниманию на протяжении целой самодельной вечности.
Рой мух на падали шуршал, как покрывало,
Сочились черви из неё,
И в черной жиже их, казалось, оживало
Разворошенное гнильё.
Сочились черви из неё,
И в черной жиже их, казалось, оживало
Разворошенное гнильё.
Но не в одной только мастерской, среди фрагментов и фигурок, Рильке наблюдал эту своевольную независимость и полноту жизни. Он столкнулся с этим на улицах Парижа. Тот тонкий карандаш, который медленно поднимался из кулака старой карги, был живым, как и ржавые булавки, которые перекатывались из стороны в сторону в предложенном ящике, словно стараясь не попадаться вам на глаза, когда вы свысока посмотрели на них. Ранним утром вода из цистерн «молодой и легкой струей лилась из труб», копыта лошадей стучали по мостовой «как сотня молотков», а крики продавцов отдавались эхом, в то время как «овощи на их ручных тележках колыхались, будто на маленьком поле». Но самая незабываемая встреча произошла с человеком, страдающим от пляски святого Вита, чьи метания и безумные стратегии преодоления он живо описывает в письме к Лу Саломе (еще одна репетиция отрывков, которые Рильке включил в «Мальте Лауридса Бригге»). Рильке следует за мужчиной несколько кварталов, наблюдая, как у бедняги дергаются плечи, летают руки и выплясывают ноги. Воля человека вступает в противоречие с его конечностями, у каждой из которых свои планы, и все четыре отпрыгнули бы сами по себе, добейся они своего, как фрагменты в случае Родена.
Таким образом, поверхности работ Родена, которые делает живыми его студийный свет, неявно опираются на философский принцип глубокой древности и респектабельности, который серьезно рассматривался Галилеем, Гоббсом и Спинозой и, посредством Фрейда, вплоть до настоящего времени. Поскольку рассматриваемый эффект связан с оживлением, может показаться странным, что речь идет о принципе инерции. Покоящееся тело останется в покое — движущееся тело останется в движении — если только что-то другое не помешает этому. Когда происходит такое вмешательство, камень, мяч или собака у двери будут сопротивляться; они будут пытаться восстановить статус-кво, стремиться спасти свое положение, сохранить равновесие, сохранить свою жизнь. Спиноза называл тенденцию оставаться неизменным конатусом объекта. В народе это называют принципом самосохранения. Все сущее, будь оно на то способно, было бы самодостаточным, столь же лишенным окон, как и монады Лейбница. Состояние эмбриона, который автоматически получает питание, защищен от любых внешних воздействий, окружен бальзамирующим океаном, вырастая, будучи запрограммированным на рост, идеально. Нас выталкивают в мир; обстоятельства как внутри нас (голод и жажда), так и снаружи (ощущения и вред) вынуждают нас справляться с ними; и, как утверждал Фрейд, мы постоянно вынуждены сводить к нулю беспокоящие требования наших желаний.
Хромота, которая говорит миру о том, что мы компенсируем травму, становится привычкой, от которой трудно избавиться, даже когда ее причина устранена и для нее больше нет никакой «причины». За исключением того, что хромота хочет остаться. Наше заикание хочет остаться. Наше падение с лестницы было бы вечным, как у изгнанного ангела, если бы мы не остановились в огненном озере или, по крайней мере, на полу. Более того, огонь пожирает любое топливо, которое ему предлагают, только потому, что он жаждет продолжать гореть блеском прославленных цитат. Пока обнаженные модели движутся по студии Родена, он наблюдает за задействованными частями их тел, пока в середине действия не улавливает самую суть жеста, его целостность. Сознание, которое обитает в нас (и, как любит воображать Рильке, обитает даже в так называемой мелочи), отказывается стареть. Как мы все наверняка заметили, стареет только наше тело, и делает это неохотно, в то время как каждый скрип, каждая ломота и мучительная боль остаются, если могут, энергичными, как вирус, молодыми, как наша смерть, жизнерадостными и полными надежд. Умирающий не хочет умирать. Умирающий сделал бы карьеру из умирания. Но у смерти есть свои планы.
Мы можем назвать это войной, если угодно — Гоббс называл — мы можем назвать это конкуренцией, но объединения создают свой собственный импульс, запутанное состояние дел противостоит разобщающему влиянию (для чего нужны бюрократы?), и все фигуры, составляющие скульптуру, подобную гражданам Кале, каждая из которых по-своему красноречива, должны чувствовать влияние столь мощной композиции. Человек с пляской святого Вита потерял контроль над своим благосостоянием. Именно это происходит, когда отдельные части политического сообщества больше не чувствуют себя в безопасности, преследуя свои собственные планы, а власть государственной полиции ослабевает. Группа должна обеспечить безопасность своих членов, если она хочет выжить. В противном случае она взорвется или задохнется. Точно так же элементы произведения искусства должны образовывать сообщество, которое придает каждому элементу самостоятельную значимость, преследуя при этом интересы целого. Слово, если бы у него был выбор, должно чувствовать, что оно выбрало бы именно тех компаньонов, которые ему были даны, чтобы, когда оно светилось от удовлетворения, сияла вся строка.
Более того, единство скульптурного фрагмента, если представить его рядом с соответствующей отрубленной конечностью, подчеркивает его собственное превосходство, поскольку оно может процветать совершенно отдельно от любого тела, в то время как и ампутация, и тот, у кого ампутирована конечность, испорчены, возможно, безвозвратно.
Октябрь был заполнен работой Рильке над эссе, но теперь Клара приехала в Париж, и у нее имелась студия в том же многоквартирном доме, что и у него, в соответствии с договоренностью, которую он в конце концов согласовал со своей совестью. Их экономическое положение оставалось тяжелым; неприязнь супругов к Парижу, которую они теперь разделяли, возросла; они переносили свое одиночество в течение зимы в сером городе, питаясь кореньями и водой, по крайней мере, так им казалось. Наконец эссе было закончено, Рильке слег с приходом первого из нескольких приступов гриппа и унылого мрака, затуманившего верхнюю половину Эйфелевой башни. К марту он был готов вернуться к своим странствиям и бежал в Италию, первую из многих стран, в которых ему предстояло найти убежище.
Прошло три года со дня его первой встречи с Роденом, прежде чем Рильке вернулся в Париж и Мёдон, на этот раз в качестве приглашенного гостя. К этому времени мастер уже прочитал монографию Рильке, поскольку теперь она превозносила его на французском языке, и тепло приветствовал поэта как надежного друга и коллегу по искусству. У посетителя было хорошее жилье, из окон которого открывался прекрасный вид на долину. Рильке вызвался помочь Родену с бумажной работой, и вскоре его взяли на работу, так сказать, на полный рабочий день. Часто он, Роден и Роза Бёре вставали рано, чтобы осмотреть город или полюбоваться Версалем, а однажды они отправились в Шартр в разгар зимы, где ужасные ветры, по словам Родена, из зависти к такому величию, терзали башни.
Рильке вжился в роль секретаря Родена, должности, к которой он стремился, потому что это давало ему комфорт в Мёдоне, потому что ему платили, потому что работа, как ожидалось, была нетребовательной; и все же то была нежеланная им должность, потому что она приковывала его к Мёдону, потому что его французский, возможно, был недостаточно хорош, и потому что она ставила его в положение слуги Родена, пока надо было делать свое дело — поэт был столь же честолюбив, как и скульптор.
Рильке планировал лекционное турне по поручению Родена, в рамках которого он должен был посетить Дрезден в конце октября, но реакция на его первое выступление разочаровала его, потому что, хотя там присутствовало «шестьсот человек», они были «не те». Затем, в Праге, он дважды выступал перед небольшой толпой озадаченных чиновников и сонных старушек, которые, как он полагал, были больше озабочены перевариванием своих обедов. Когда Рильке в нескольких абзацах своего текста спрашивает: «Вы слушаете?», — то чисто ли это риторический вопрос? Хуже того: их невнимательность не покрывала его расходов. В Берлине состоялись визиты и чтения, прежде чем он в последний раз повторил свою лекцию о Родене — на этот раз с некоторым успехом.
Весна 1906 года снова застала его в Мёдоне, где работа, стремительнее, чем он помнил, вцепилась в него, словно охотничья собака. В одном из своих стихотворений он сравнил себя с лебедем, выплывающим из воды и ковыляющим «по еще не завершенным делам». Личная эпистола была той формой искусства, в которой Рильке преуспел, а деловое письмо на французском — формой скучной, неподатливой, иностранной, и вызывало разочарование. Поэт стал медлительным, а скульптор нетерпеливым. Более того, Рильке начал отвечать на письма, не удосужившись сообщить Родену о факте или характере переписки, присвоив себе полномочия, которых у него не было: один раз барону Генриху Тиссен-Борнемисе, богатому немецкому меценату, другой раз сэру Уильяму Ротенштейну, известному английскому художественному руководителю и академическому художнику. Узнав об этой самонадеянности, Роден избавил Рильке от должности с таким пылом, что тот лишился своего места в коттедже и окрестностях, а также должности секретаря. Вскоре Рильке, потухший уголек, вернулся в свою маленькую парижскую комнату.
Поэт вновь обрел свою опасную свободу, свое личное пространство, пространство, которое, как можно подозревать, было очень похоже на то пространство, которое, по его мнению, требовалось фигурам Родена, не только позволяющее рассматривать их «по кругу», но и пространство, которое принадлежало им по праву уникальности, которое отличало их каким-то образом «от других вещей, обычных вещей, которые каждый мог бы постичь». Таким образом, маленькая статуя могла казаться большой. Рильке тоже требовалось достойное уважения помещение, где он мог бы стоять «одинокий и сияющий» с «лицом провидца». И все же риторика Рильке, когда он пишет о творчестве Родена, является не просто отражением его потребности повысить собственную значимость; она также выражает необходимость того, чтобы любое произведение искусства претендовало на соответствующую арену, отсюда и тесное размещение картин в некоторых музеях, или рядом друг с другом на одной и той же стене, или втиснутый в угол бюст, или брошенная фигура в конце узкого коридора, ведущего к туалетам, лифтам или магазинам, — это либо признак катастрофической перенаселенности, либо демонстрация пренебрежения кураторов, либо свидетельство слабой художественной силы. Даже фрагмент должен стоять на своем месте, как Наполеон, и существует множество свидетельств имперского эффекта скульптур Родена, независимо от их размера. В своем сборнике эссе «Племянник Леонардо» Джеймс Фентон цитирует речь Аристида Майоля — какой ее запомнил вездесущий граф Кесслер:
Таким образом, поверхности работ Родена, которые делает живыми его студийный свет, неявно опираются на философский принцип глубокой древности и респектабельности, который серьезно рассматривался Галилеем, Гоббсом и Спинозой и, посредством Фрейда, вплоть до настоящего времени. Поскольку рассматриваемый эффект связан с оживлением, может показаться странным, что речь идет о принципе инерции. Покоящееся тело останется в покое — движущееся тело останется в движении — если только что-то другое не помешает этому. Когда происходит такое вмешательство, камень, мяч или собака у двери будут сопротивляться; они будут пытаться восстановить статус-кво, стремиться спасти свое положение, сохранить равновесие, сохранить свою жизнь. Спиноза называл тенденцию оставаться неизменным конатусом объекта. В народе это называют принципом самосохранения. Все сущее, будь оно на то способно, было бы самодостаточным, столь же лишенным окон, как и монады Лейбница. Состояние эмбриона, который автоматически получает питание, защищен от любых внешних воздействий, окружен бальзамирующим океаном, вырастая, будучи запрограммированным на рост, идеально. Нас выталкивают в мир; обстоятельства как внутри нас (голод и жажда), так и снаружи (ощущения и вред) вынуждают нас справляться с ними; и, как утверждал Фрейд, мы постоянно вынуждены сводить к нулю беспокоящие требования наших желаний.
Хромота, которая говорит миру о том, что мы компенсируем травму, становится привычкой, от которой трудно избавиться, даже когда ее причина устранена и для нее больше нет никакой «причины». За исключением того, что хромота хочет остаться. Наше заикание хочет остаться. Наше падение с лестницы было бы вечным, как у изгнанного ангела, если бы мы не остановились в огненном озере или, по крайней мере, на полу. Более того, огонь пожирает любое топливо, которое ему предлагают, только потому, что он жаждет продолжать гореть блеском прославленных цитат. Пока обнаженные модели движутся по студии Родена, он наблюдает за задействованными частями их тел, пока в середине действия не улавливает самую суть жеста, его целостность. Сознание, которое обитает в нас (и, как любит воображать Рильке, обитает даже в так называемой мелочи), отказывается стареть. Как мы все наверняка заметили, стареет только наше тело, и делает это неохотно, в то время как каждый скрип, каждая ломота и мучительная боль остаются, если могут, энергичными, как вирус, молодыми, как наша смерть, жизнерадостными и полными надежд. Умирающий не хочет умирать. Умирающий сделал бы карьеру из умирания. Но у смерти есть свои планы.
Мы можем назвать это войной, если угодно — Гоббс называл — мы можем назвать это конкуренцией, но объединения создают свой собственный импульс, запутанное состояние дел противостоит разобщающему влиянию (для чего нужны бюрократы?), и все фигуры, составляющие скульптуру, подобную гражданам Кале, каждая из которых по-своему красноречива, должны чувствовать влияние столь мощной композиции. Человек с пляской святого Вита потерял контроль над своим благосостоянием. Именно это происходит, когда отдельные части политического сообщества больше не чувствуют себя в безопасности, преследуя свои собственные планы, а власть государственной полиции ослабевает. Группа должна обеспечить безопасность своих членов, если она хочет выжить. В противном случае она взорвется или задохнется. Точно так же элементы произведения искусства должны образовывать сообщество, которое придает каждому элементу самостоятельную значимость, преследуя при этом интересы целого. Слово, если бы у него был выбор, должно чувствовать, что оно выбрало бы именно тех компаньонов, которые ему были даны, чтобы, когда оно светилось от удовлетворения, сияла вся строка.
Более того, единство скульптурного фрагмента, если представить его рядом с соответствующей отрубленной конечностью, подчеркивает его собственное превосходство, поскольку оно может процветать совершенно отдельно от любого тела, в то время как и ампутация, и тот, у кого ампутирована конечность, испорчены, возможно, безвозвратно.
Октябрь был заполнен работой Рильке над эссе, но теперь Клара приехала в Париж, и у нее имелась студия в том же многоквартирном доме, что и у него, в соответствии с договоренностью, которую он в конце концов согласовал со своей совестью. Их экономическое положение оставалось тяжелым; неприязнь супругов к Парижу, которую они теперь разделяли, возросла; они переносили свое одиночество в течение зимы в сером городе, питаясь кореньями и водой, по крайней мере, так им казалось. Наконец эссе было закончено, Рильке слег с приходом первого из нескольких приступов гриппа и унылого мрака, затуманившего верхнюю половину Эйфелевой башни. К марту он был готов вернуться к своим странствиям и бежал в Италию, первую из многих стран, в которых ему предстояло найти убежище.
Прошло три года со дня его первой встречи с Роденом, прежде чем Рильке вернулся в Париж и Мёдон, на этот раз в качестве приглашенного гостя. К этому времени мастер уже прочитал монографию Рильке, поскольку теперь она превозносила его на французском языке, и тепло приветствовал поэта как надежного друга и коллегу по искусству. У посетителя было хорошее жилье, из окон которого открывался прекрасный вид на долину. Рильке вызвался помочь Родену с бумажной работой, и вскоре его взяли на работу, так сказать, на полный рабочий день. Часто он, Роден и Роза Бёре вставали рано, чтобы осмотреть город или полюбоваться Версалем, а однажды они отправились в Шартр в разгар зимы, где ужасные ветры, по словам Родена, из зависти к такому величию, терзали башни.
Рильке вжился в роль секретаря Родена, должности, к которой он стремился, потому что это давало ему комфорт в Мёдоне, потому что ему платили, потому что работа, как ожидалось, была нетребовательной; и все же то была нежеланная им должность, потому что она приковывала его к Мёдону, потому что его французский, возможно, был недостаточно хорош, и потому что она ставила его в положение слуги Родена, пока надо было делать свое дело — поэт был столь же честолюбив, как и скульптор.
Рильке планировал лекционное турне по поручению Родена, в рамках которого он должен был посетить Дрезден в конце октября, но реакция на его первое выступление разочаровала его, потому что, хотя там присутствовало «шестьсот человек», они были «не те». Затем, в Праге, он дважды выступал перед небольшой толпой озадаченных чиновников и сонных старушек, которые, как он полагал, были больше озабочены перевариванием своих обедов. Когда Рильке в нескольких абзацах своего текста спрашивает: «Вы слушаете?», — то чисто ли это риторический вопрос? Хуже того: их невнимательность не покрывала его расходов. В Берлине состоялись визиты и чтения, прежде чем он в последний раз повторил свою лекцию о Родене — на этот раз с некоторым успехом.
Весна 1906 года снова застала его в Мёдоне, где работа, стремительнее, чем он помнил, вцепилась в него, словно охотничья собака. В одном из своих стихотворений он сравнил себя с лебедем, выплывающим из воды и ковыляющим «по еще не завершенным делам». Личная эпистола была той формой искусства, в которой Рильке преуспел, а деловое письмо на французском — формой скучной, неподатливой, иностранной, и вызывало разочарование. Поэт стал медлительным, а скульптор нетерпеливым. Более того, Рильке начал отвечать на письма, не удосужившись сообщить Родену о факте или характере переписки, присвоив себе полномочия, которых у него не было: один раз барону Генриху Тиссен-Борнемисе, богатому немецкому меценату, другой раз сэру Уильяму Ротенштейну, известному английскому художественному руководителю и академическому художнику. Узнав об этой самонадеянности, Роден избавил Рильке от должности с таким пылом, что тот лишился своего места в коттедже и окрестностях, а также должности секретаря. Вскоре Рильке, потухший уголек, вернулся в свою маленькую парижскую комнату.
Поэт вновь обрел свою опасную свободу, свое личное пространство, пространство, которое, как можно подозревать, было очень похоже на то пространство, которое, по его мнению, требовалось фигурам Родена, не только позволяющее рассматривать их «по кругу», но и пространство, которое принадлежало им по праву уникальности, которое отличало их каким-то образом «от других вещей, обычных вещей, которые каждый мог бы постичь». Таким образом, маленькая статуя могла казаться большой. Рильке тоже требовалось достойное уважения помещение, где он мог бы стоять «одинокий и сияющий» с «лицом провидца». И все же риторика Рильке, когда он пишет о творчестве Родена, является не просто отражением его потребности повысить собственную значимость; она также выражает необходимость того, чтобы любое произведение искусства претендовало на соответствующую арену, отсюда и тесное размещение картин в некоторых музеях, или рядом друг с другом на одной и той же стене, или втиснутый в угол бюст, или брошенная фигура в конце узкого коридора, ведущего к туалетам, лифтам или магазинам, — это либо признак катастрофической перенаселенности, либо демонстрация пренебрежения кураторов, либо свидетельство слабой художественной силы. Даже фрагмент должен стоять на своем месте, как Наполеон, и существует множество свидетельств имперского эффекта скульптур Родена, независимо от их размера. В своем сборнике эссе «Племянник Леонардо» Джеймс Фентон цитирует речь Аристида Майоля — какой ее запомнил вездесущий граф Кесслер:
Когда смотришь на скульптуру Родена издалека, она кажется маленькой, очень маленькой. Но она — часть окружающего ее воздуха. У Родена дома есть статуя Будды, удачно расположенная на цоколе, в его саду, перед кругом из небольших кустарников. Ну, она такая же большая, как [показывает ее очень маленькой], и все же она такая же большая, как небо. Заполняет все. Не объять.
Рильке был точно так же очарован этим произведением.
Будда
Он в слухе весь, в той тишине, где дали…
Мы глýхи к ней, давным-давно отстав.
А он — звезда. Другие звезды встали
вокруг него, для нас не заблистав.
О, он — Вселенная! И в самом деле ждём мы,
чтоб нас увидел он сквозь свой прищур ресниц?
Но даже если бы склонились ниц,
он пребывал бы словно зверь, в себе рождённый.
Ведь то, что нас порой к его стопам стремит,
то в нём самом уже милльонолетья кружит.
Что мы познать хотим, ему давно не служит;
с чем он накоротке, то вмиг нас разорит22.
Он в слухе весь, в той тишине, где дали…
Мы глýхи к ней, давным-давно отстав.
А он — звезда. Другие звезды встали
вокруг него, для нас не заблистав.
О, он — Вселенная! И в самом деле ждём мы,
чтоб нас увидел он сквозь свой прищур ресниц?
Но даже если бы склонились ниц,
он пребывал бы словно зверь, в себе рождённый.
Ведь то, что нас порой к его стопам стремит,
то в нём самом уже милльонолетья кружит.
Что мы познать хотим, ему давно не служит;
с чем он накоротке, то вмиг нас разорит22.
Рут Батлер, выдающийся биограф Родена, предполагает, что на увольнение Рильке повлияли какие-то дополнительные факторы. Когда Рильке вернулся из своего неторопливого лекционного турне, Роден был болен так называемым гриппом. Роза Бёре была в плохом настроении, что не улучшало его собственное. Поэтому он попросил Джорджа Бернарда Шоу, чей бюст ему заказали, поехать с женой на поезде в Мёдон и позировать для него, чтобы больному художнику не пришлось приезжать в мастерскую в Париже. Изначально чета Шоу пришла с беззаботным настроем, но когда Бернард узнал, что Роден не возражал против того, чтобы его фотографировали (драматург попробовал свои силы сам), он попросил разрешения пригласить к ним и своего друга, американского фотографа Элвина Лэнгдона Коберна. Шоу, на которого нелегко было произвести впечатление человеку, стоящему вне ореола его бороды, осознавал, что большой палец Родена является более весомым актом одобрения, чем печать Папы Римского, и поэтому сказал Коберну: «Ни одна сделанная фотография даже близко не охватила его целиком…Он на косую сажень крупнее человека, которого вы когда-либо видели; все остальные ваши натурщики годятся только на то, чтобы делать желатин для эмульсии его негатива». Разумеется, еще чаще запечатлевали на фотографиях сами скульптуры Родена, лучшие из которых были сделаны Эженом Друэ. Иногда Роден тщательно управлял съемочным процессом, но лишь немногие из получившихся фотографий (за исключением работ Эдварда Стайхена) обладают теми эстетическими качествами или драматизмом, что можно увидеть в современных изображениях Майкла Истмена. Роден едва ли мог остаться разочарованным традиционно лиричным взглядом Коберна, поскольку он изображает скульптора с бородой, напоминающей реку, и в шляпе, которую мы теперь называем «таблетницей». Голова Родена слегка наклонена вверх, что напоминает героическую позу, которую он придал Бальзаку.
Чтобы посмотреть, как Шоу позирует для своего бессмертия, он собрал толпу, а также пригласил куратора музея Фицуильяма — Сидни Кокерелла.
Чтобы посмотреть, как Шоу позирует для своего бессмертия, он собрал толпу, а также пригласил куратора музея Фицуильяма — Сидни Кокерелла.
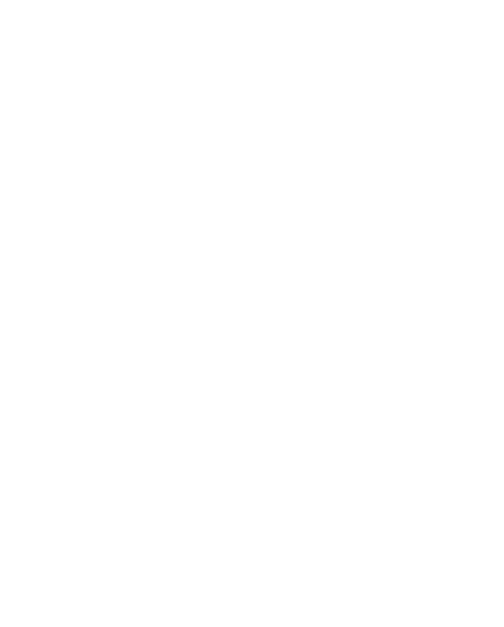
Рильке присоединился к ним, почти сразу же впечатленный работой Шоу в качестве натурщика — вся команда стремилась блестяще написать о сверкающем созвездии, которое они недооценивали, даже в попытке преувеличить.
В газете «Gil Blas» за 24 мая 1912 года Шоу писал:
В газете «Gil Blas» за 24 мая 1912 года Шоу писал:
Роден работал кропотливо… Когда он сомневался, то измерял меня старым железным циркулем, потом измерял бюст. Если нос оказывался слишком длинным, он отрезал секцию и прижимал конец, чтобы закрыть рану, без особых эмоций или притворства, как стекольщик, заменяющий окно. Если ухо оказывалось не на своем месте, он отрезал его и накладывал правильно, причем эти увечья совершались хладнокровно в присутствии моей жены (которая почти ожидала, что и без того ужасно ожившая глина начнет кровоточить), отмечая при этом, что так было быстрее, чем делать новое ухо.
Рильке написал немецкому издателю Шоу — Самуэлю Фишеру:
Роден начал работу над портретом одного из ваших самых замечательных авторов; он обещает быть исключительно хорошим. Редко когда при создании портрета так сильно помогал изображаемый, как с работой над бюстом Бернарда Шоу. Дело не только в том, что он превосходно умеет стоять (вкладывая столько энергии в неподвижное стояние и безоговорочно отдавая себя в руки скульптора), но и в том, что он так собирает и концентрирует себя в той части тела, которая в бюсте должна будет… представлять всего Шоу, вся личность как бы превращается в концентрированную сущность.
Все они сделали перерыв, чтобы принять участие в праздновании установки «Мыслителя» перед Пантеоном. Шоу, не желавший отставать (и столь же превосходный как в сидячем, так и в стоячем положении), уговорил Коберна сфотографировать его на следующий же день обнаженным после утреннего принятия ванны в позе, воплощенной перед Пантеоном. Фотография сохранилась на радость потомкам. Рильке был явно очарован английским гением, который не возражал против лести даже со стороны неоперившихся безвестностей. Кроме того, во время недели работы Родена и, что еще хуже, во время недели его триумфа, Шоу явно боролся за внимание, если не за славу, со всеми, включая секретаршу Родена и статую Родена. Батлер говорит: «Именно Рильке поплатился за визит озорного англичанина».
Хотя Рильке предложил Родену приобрести Отель Бирон, позже ставший музеем Родена, и некоторое время жил в этом здании (как и Кокто, который утверждал, что сыграл свою роль в его сохранении), его близость с Роденом закончилась. Через два дня после отъезда Шоу в Лондон, 10 мая 1906 года, Рильке был «уволен как слуга-воришка». Мы можем притвориться, что знаем это наверняка.
Хотя Рильке предложил Родену приобрести Отель Бирон, позже ставший музеем Родена, и некоторое время жил в этом здании (как и Кокто, который утверждал, что сыграл свою роль в его сохранении), его близость с Роденом закончилась. Через два дня после отъезда Шоу в Лондон, 10 мая 1906 года, Рильке был «уволен как слуга-воришка». Мы можем притвориться, что знаем это наверняка.