Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Послесловие Стаса Кина, опубликованное в издании романа "Эпоха провода и струны", Kongress W press, 2023 г.
Сравните использования Фортом слова «фрики» с «уродами (freaks) из отдела Пси» Роджера Мехико, когда он был в «Белом явлении» и имел в виду те же «дикие таланты», которые описал ранее на сеансе; «кто все эти люди… Уроды! Уррроооодыыыы!» (РТ 1.16).
Вайзенбургер обращает внимание на дух шестидесятых в ее имени (в ориг. Geli Tripping), но никакого на то, что оно скорее всего навеяно песней «Gayly Tripping, Lightly Skipping» Гилберта и Салливана (Корабль ее величества «Пинафор», акт 1). Пинчон несколько раз упоминает этот дуэт в романе.
"Огненный алфавит", некнига
Автор Стас Кин
Губам никак не удавалось принять нужную форму, чтобы вылепить из воздуха слова.
Бен Маркус, «Женская пантомима»
Для американской литературы главная тема — это семья. Семья, в которой что-то неладно. Я, конечно, чересчур обобщаю… И всё же когда писатель пытается наполнить свою книгу эмоциональным содержанием, самый простой выход — поставить в центр повествования некое семейство и подтолкнуть его к распаду.
Бен Маркус, интервью, 2002 год
…каждая новая порция языка воспринимается как уникальная, а её бесчисленные части просеиваются через настолько всеохватные расшифровывающие процессы, что даже остова слова не останется.
Бен Маркус, «Почему экспериментальная литература грозит уничтожить…»
Бен Маркус, «Женская пантомима»
Для американской литературы главная тема — это семья. Семья, в которой что-то неладно. Я, конечно, чересчур обобщаю… И всё же когда писатель пытается наполнить свою книгу эмоциональным содержанием, самый простой выход — поставить в центр повествования некое семейство и подтолкнуть его к распаду.
Бен Маркус, интервью, 2002 год
…каждая новая порция языка воспринимается как уникальная, а её бесчисленные части просеиваются через настолько всеохватные расшифровывающие процессы, что даже остова слова не останется.
Бен Маркус, «Почему экспериментальная литература грозит уничтожить…»
В марте выходит книга Стефана Вандерхаге Dear Incomprehension1, где он исследует экспериментальные нарративы, бросающие вызов самой сути повествования и чтения. Это философское эссе отражает неортодоксальную природу анализируемых текстов, обращаясь к американским произведениям, порвавшим с традиционными повествовательными приемами (сюжет, персонажи, логика, внятность). Опираясь на ряд философских теорий, Вандерхаге утверждает, что эти нетрадиционные работы противостоят стандартным инструментам критики и требуют новых точек зрения и новых подходов. Среди прочего в этой книге содержится на редкость годный и важный анализ «Огненного алфавита», где нюансируются неочевидные аспекты романа. Ниже приведу некоторые выжимки оттуда, которые, на мой взгляд, помогают смотреть на «Алфавит» под правильным углом, и еще порассуждаю сам. Наверняка в итоге получится довольно беспорядочная сборка, выстроенная как попало из разнородных материалов, что вовсе не странно, если учитывать предмет моего исследования. Кроме того, целью стоит не столько написание текста, сколько подсветка сокрытого.
Итак, если касаться сюжетного движка, то в «Огненном алфавите» рассказывается о загадочной языковой болезни, которая поражает только взрослых и быстро приобретает пандемические масштабы, лишая персонажей возможности общаться и переписываться. Вандерхаге подмечает, что таким образом этот роман функционирует по парадоксальной схеме, и вся исходная затея грозит привести лишь к вопиющему противоречию: рассказчик Сэм может пообещать никогда больше «ничего не желать в письменном виде», но в итоге он пишет свой собственный рассказ о выживании, каким-то образом избегая языкового токсикоза, который должен был бы сделать эту затею невозможной. [Вот это точно надо держать в уме — этот базовый парадокс, потому как он указывает общее направление более зрелого и более тонкого, по сравнению с предыдущими крупными текстами, эксперимента Маркуса с формами художественной литературы.]
В определенной степени «Огненный алфавит» представляет собой умозрительную дилемму. Роман, пораженный таинственной языковой болезнью, отчасти читается как «произведение о потере», поскольку его герои сталкиваются с полной невозможностью контактировать со своими близкими. Болезнь озадачивает всех, распространяется, но никто не может ее постичь.
Разумеется, загадку, которую она демонстрирует, всегда можно объяснить эпистемологически: можно считать, что со вспышкой речевой лихорадки наука как таковая, возможно, не исчезает совсем, а просто сталкивается с ограничениями. То, что невозможно рационализировать сейчас, всегда может найти объяснение позднее, как «Гиппократ, Авиценна, длинный список экспертов… знали, не зная, что наше самое сильное загрязнение — вербальное». Хотя никто пока не понимает, отчего человеческий язык вдруг стал смертельно опасным, ученые и рассказчик продолжают искать ответы и ставить эксперименты в надежде, что в свое время лекарство будет найдено. В конце романа намечаются пути обуздания болезни, хотя бы на время. Однако, как загадочно уточняет Сэм, не желая поначалу вдаваться в подробности, за это придется заплатить немалую цену…
Впрочем, если эпистемологическое прочтение «Огненного алфавита» может быть правдоподобным, роман также торгует метафизическими вопросами — об этом говорят прямые аллюзии на еврейский мистицизм, а также место, отведенное религии в тексте в целом. Таким образом, передаваемая языком болезнь поднимает вопросы, выходящие за рамки эпистемологических, касающиеся ограниченности знания и науки, и придает роману спекулятивный уклон, поскольку, лишая Сэма доступа к языку, он неявно вмешивается в саму природу человеческого взаимодействия и любого отношения к реальному — реальному, которое все труднее определить и установить. Поскольку язык в любой форме приводит к физическому увяданию и распаду, общение и, более того, все человеческие взаимодействия фактически исключаются из мира «Огненного алфавита» — в том числе исследования и наука. То, что Сэм во второй части романа делает в Форсайте — школе, превращенной в исследовательский центр под руководством ЛеБова — не что иное, как гротескная пародия. «Ты серьёзно?» — спрашивает ЛеБов у Сэма в момент общего индуцированного иммунитета. «Ты сидишь здесь и создаёшь чёртовы алфавиты? Насколько мал твой умишко?» Даже если бы кто-то нашел чудесное решение проблемы языковой токсичности, будь то новый алфавит или медицинское лекарство, он столкнулся бы с абсолютной невозможностью им поделиться. Сэм осознает:
Итак, если касаться сюжетного движка, то в «Огненном алфавите» рассказывается о загадочной языковой болезни, которая поражает только взрослых и быстро приобретает пандемические масштабы, лишая персонажей возможности общаться и переписываться. Вандерхаге подмечает, что таким образом этот роман функционирует по парадоксальной схеме, и вся исходная затея грозит привести лишь к вопиющему противоречию: рассказчик Сэм может пообещать никогда больше «ничего не желать в письменном виде», но в итоге он пишет свой собственный рассказ о выживании, каким-то образом избегая языкового токсикоза, который должен был бы сделать эту затею невозможной. [Вот это точно надо держать в уме — этот базовый парадокс, потому как он указывает общее направление более зрелого и более тонкого, по сравнению с предыдущими крупными текстами, эксперимента Маркуса с формами художественной литературы.]
В определенной степени «Огненный алфавит» представляет собой умозрительную дилемму. Роман, пораженный таинственной языковой болезнью, отчасти читается как «произведение о потере», поскольку его герои сталкиваются с полной невозможностью контактировать со своими близкими. Болезнь озадачивает всех, распространяется, но никто не может ее постичь.
Разумеется, загадку, которую она демонстрирует, всегда можно объяснить эпистемологически: можно считать, что со вспышкой речевой лихорадки наука как таковая, возможно, не исчезает совсем, а просто сталкивается с ограничениями. То, что невозможно рационализировать сейчас, всегда может найти объяснение позднее, как «Гиппократ, Авиценна, длинный список экспертов… знали, не зная, что наше самое сильное загрязнение — вербальное». Хотя никто пока не понимает, отчего человеческий язык вдруг стал смертельно опасным, ученые и рассказчик продолжают искать ответы и ставить эксперименты в надежде, что в свое время лекарство будет найдено. В конце романа намечаются пути обуздания болезни, хотя бы на время. Однако, как загадочно уточняет Сэм, не желая поначалу вдаваться в подробности, за это придется заплатить немалую цену…
Впрочем, если эпистемологическое прочтение «Огненного алфавита» может быть правдоподобным, роман также торгует метафизическими вопросами — об этом говорят прямые аллюзии на еврейский мистицизм, а также место, отведенное религии в тексте в целом. Таким образом, передаваемая языком болезнь поднимает вопросы, выходящие за рамки эпистемологических, касающиеся ограниченности знания и науки, и придает роману спекулятивный уклон, поскольку, лишая Сэма доступа к языку, он неявно вмешивается в саму природу человеческого взаимодействия и любого отношения к реальному — реальному, которое все труднее определить и установить. Поскольку язык в любой форме приводит к физическому увяданию и распаду, общение и, более того, все человеческие взаимодействия фактически исключаются из мира «Огненного алфавита» — в том числе исследования и наука. То, что Сэм во второй части романа делает в Форсайте — школе, превращенной в исследовательский центр под руководством ЛеБова — не что иное, как гротескная пародия. «Ты серьёзно?» — спрашивает ЛеБов у Сэма в момент общего индуцированного иммунитета. «Ты сидишь здесь и создаёшь чёртовы алфавиты? Насколько мал твой умишко?» Даже если бы кто-то нашел чудесное решение проблемы языковой токсичности, будь то новый алфавит или медицинское лекарство, он столкнулся бы с абсолютной невозможностью им поделиться. Сэм осознает:
Дни понимания закончились. Вопрос, который я даже не мог сформулировать, заключался в следующем: Что же нам теперь делать, если с медицинской точки зрения невозможно понять друг друга без стремительной, уродливой пагубы? Это была уже не болезнь языка, это была болезнь прозрения, понимания, знания.
Болезнь, таким образом, не может быть познана или понята. Она поражает сами основы знания и понимания — те основания, на которых мог быть разработан метод. Знание и понимание не просто ограничены или приостановлены в настоящем, они отменены полностью и насовсем.
Как следствие, постоянная озабоченность романа понятиями смысла и понимания, если она проистекает из чтения и изучения Маркусом еврейского мистицизма и каббалы, не может избежать метафизического или критического поворота:
Как следствие, постоянная озабоченность романа понятиями смысла и понимания, если она проистекает из чтения и изучения Маркусом еврейского мистицизма и каббалы, не может избежать метафизического или критического поворота:
— Понимание само по себе не имеет значения, — продолжил Бёрк чуть более спокойно. — Не делайте из него фетиш, ибо оно ничего не даёт взамен. От этой привычки нужно отказаться. Понимание усыпляет нас. Погружает в тёмный и нежелательный сон. Вопросы, подобные этим, не предназначены для решения. Мы никогда не должны обманываться, будто бы знаем свои роли. Мы всегда должны думать о том, чего требует момент.
Во многих отношениях «Огненный алфавит» упорно сопротивляется пониманию и прицелу на любое критическое прочтение, которое пыталось бы объяснить или извлечь из него смысл. Это не означает, что роман Маркуса как таковой полностью лишен смысла или что он намеренно прибегает к бессмыслице, но любая попытка критика найти смысл и оправдание в изображенном Маркусом мире, с самого начала и de facto если не полностью опровергается, то, по крайней мере, серьезно оспаривается самой предпосылкой романа. Агрессивный тон Сэма — «Вот и прикиньте сами», говорит он в самом начале, призывая читателя к самостоятельным выводам — свидетельствует о его нежелании рассказывать свою историю, как и о нежелании, к тому времени как он потерял связь с женой и дочерью, общаться с ними.
Если сравнивать с «Эпохой провода и струны» и «Выдающимися американками», чьи разрывы мешают нарративу, то «Огненный алфавит» на первый взгляд кажется более удобным для читателя. Сэм рассказывает полноценную историю, дистопические панорамы которой не обрывают радикально все связи с реальностью. Несмотря на экстра-научный уклон, эстетика «Алфавита» не чурается реализма, напротив, кажется, что даже напротив [sic!]. Погружений в реальность в романе действительно много, одно из них — изображение [квази]еврейской веры.
Отношение романа к вопросам непроницаемости, непонимания или непостижимости демонстрирует ту же спекулятивную — то есть неуловимую, рефрактерную, парадоксальную — логику, что и в других произведениях Маркуса, и, возможно, нигде так не наводит на важную мысль, как в формализации особой ветви иудаизма, которую изображает роман и которая, отчасти, придает ему метафизический уклон.
Если смысл существования любой религии заключается, говоря этимологически, в том, чтобы объединить людей в одном и том же наборе верований, интегрировать и связать их в сообщество, то это вступает в терминологическое противоречие с идеей частного и тайного поклонения. Религиозная тема в романе перекликается с его основной темой — токсичной коммуникацией и все возрастающей изоляцией героев, которые в результате языковой чумы отдаляются и отрываются друг от друга.
Это иллюстрируется тем, как «лесных евреев» учат поклоняться — частным образом, группами по два человека, муж и жена, в уединенной хижине, спрятанной посреди леса. Секретность здесь играет ключевую роль, равно как и молчание, некоммуникабельность и безответность. Идея общины — группы людей с общими интересами — иронично заменяется сложной, хотя и гротескной сетью подземных кабелей и проводов, транслирующих проповеди раввина Бёрка через «слушателя» — неправдоподобное технологическое устройство со странными звериными чертами. Община, коллективные отношения и взаимозависимость, которые она воплощает в себе, здесь абстрагированы в простые технологические рамки.
По иронии судьбы, религиозное «вещание» с его импликациями массовой (широкой) коммуникации (трансляции) фигурирует только в названии, в главе, изобилующей резкими семантическими интерференциями и оксюморонами между тем, что относится к сетям, связям, сообществу и контакту, с одной стороны, и к уединению, изоляции, дискретности и приватности, с другой.
В этом отношении «Огненный алфавит», возможно, работает в направлении некой формы абсолютизации или радикального отделения от мысли. Маркус рассматривает сам язык в его референциальной претензии на соответствие реальности, на формирование смысла.
Если сравнивать с «Эпохой провода и струны» и «Выдающимися американками», чьи разрывы мешают нарративу, то «Огненный алфавит» на первый взгляд кажется более удобным для читателя. Сэм рассказывает полноценную историю, дистопические панорамы которой не обрывают радикально все связи с реальностью. Несмотря на экстра-научный уклон, эстетика «Алфавита» не чурается реализма, напротив, кажется, что даже напротив [sic!]. Погружений в реальность в романе действительно много, одно из них — изображение [квази]еврейской веры.
Отношение романа к вопросам непроницаемости, непонимания или непостижимости демонстрирует ту же спекулятивную — то есть неуловимую, рефрактерную, парадоксальную — логику, что и в других произведениях Маркуса, и, возможно, нигде так не наводит на важную мысль, как в формализации особой ветви иудаизма, которую изображает роман и которая, отчасти, придает ему метафизический уклон.
Если смысл существования любой религии заключается, говоря этимологически, в том, чтобы объединить людей в одном и том же наборе верований, интегрировать и связать их в сообщество, то это вступает в терминологическое противоречие с идеей частного и тайного поклонения. Религиозная тема в романе перекликается с его основной темой — токсичной коммуникацией и все возрастающей изоляцией героев, которые в результате языковой чумы отдаляются и отрываются друг от друга.
Это иллюстрируется тем, как «лесных евреев» учат поклоняться — частным образом, группами по два человека, муж и жена, в уединенной хижине, спрятанной посреди леса. Секретность здесь играет ключевую роль, равно как и молчание, некоммуникабельность и безответность. Идея общины — группы людей с общими интересами — иронично заменяется сложной, хотя и гротескной сетью подземных кабелей и проводов, транслирующих проповеди раввина Бёрка через «слушателя» — неправдоподобное технологическое устройство со странными звериными чертами. Община, коллективные отношения и взаимозависимость, которые она воплощает в себе, здесь абстрагированы в простые технологические рамки.
По иронии судьбы, религиозное «вещание» с его импликациями массовой (широкой) коммуникации (трансляции) фигурирует только в названии, в главе, изобилующей резкими семантическими интерференциями и оксюморонами между тем, что относится к сетям, связям, сообществу и контакту, с одной стороны, и к уединению, изоляции, дискретности и приватности, с другой.
В этом отношении «Огненный алфавит», возможно, работает в направлении некой формы абсолютизации или радикального отделения от мысли. Маркус рассматривает сам язык в его референциальной претензии на соответствие реальности, на формирование смысла.
Окружавшая хижины секретность была вполне оправданной. Истинное еврейское учение не предназначено для массового потребления, оно не для групп, и не должно оскверняться ни малейшим проявлением коммуникации. Распространение этих посланий размывает их. Даже само понимание их — уже компромисс. Язык убивает сам себя, разлагается внутри своего носителя. Язык действует на сообщение, словно кислота. Если вас больше не волнует какая-то идея или чувство, переведите их на язык. Безусловно, это их прикончит. Язык — ещё одно название гроба. Бауман сказал нам, что единственное, о чём нужно беспокоиться в связи с проповедями, это если мы начнём понимать их слишком хорошо. Когда такой день наступает, значит, что-то точно не в порядке.
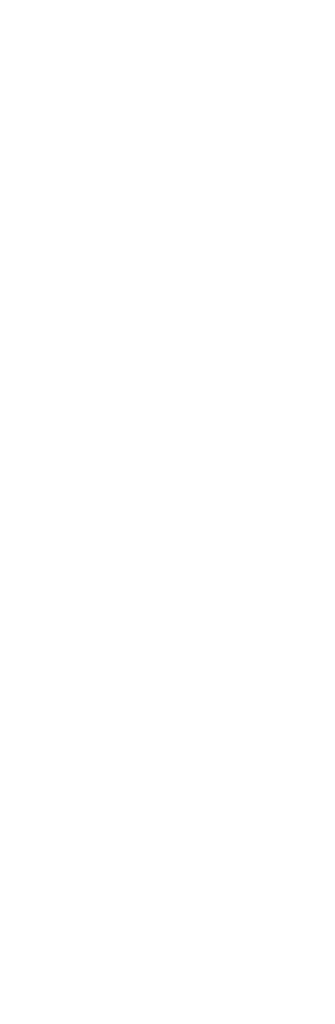
Несмотря на очевидные эстетические различия, «Огненный алфавит» встречается со своими предшественниками — «Эпохой провода и струны» и «Выдающимися американками» — на их поле, преследуя цель принизить и подорвать понимание и осмысленность. В каком-то смысле «Огненный алфавит» можно рассматривать как оборотную сторону той же медали: он стремится решить схожую проблему, но с позиций большего правдоподобия, ища приобщения к реальному и освобождения от него («по крайней мере, не запрещения»), тогда как «Эпоха провода и струны» и «Выдающиеся американки» в какой-то мере работали над созданием той «мифологии», о которой говорит Маркус: люди будут «наказаны за использование языка» — отсюда молчание в «Американках» и изгнание отца в языковую яму в начале текста, или «за то, что предполагают, что знают что-либо» — отсюда предостережения против такого легкого, умозрительного знания, прозвучавшие в «Аргументе», открывающем «Эпоху». Вопиющее бегство от реальности в нелепое, абсурдное, гротескное, фарсовое, бессвязное, нелогичное — свидетельствует об искусственном и надуманном, навороченном и произвольном аспекте означивания, интерпретации. Результатом, который сам по себе является проблематичным продуктом таких интерпретационных жестов, от коих уклоняется Маркус, становятся весьма комичные тексты, которые отчасти читаются как пародии или пастиши на научные, экспертные документы: статьи из энциклопедий или словарей, исторические хроники, статистические исследования, инструкции по эксплуатации, часто задаваемые вопросы, юридические документы или даже интервью, как в «Покидая море». Если тексты сопротивляются, они также демонстрируют явное отсутствие (миметического) реализма; сама комичность, с которой они развлекают, может одновременно разрядить их, притупить их грани, выдать их за беспричинные акты, оторванные от любой реальности, кроме их собственной.
Это пародийное измерение гораздо меньше проявлено в «Алфавите», где используется более традиционный подход к повествованию и который временами даже открыто приглашает читателя заняться герменевтикой — в то время как предыдущие книги Маркуса скорее предостерегали от этого, блокировали или делали такие интерпретационные ходы нелепыми. Заимствования из истории философии и медицины в главе 13 или из религии, когда речь идет о том, в чем состоит еврейский реконструкционизм, практикуемый «лесными евреями» в главе 8, на первый взгляд могут служить эпистемологической и эстетической защитой, поскольку, согласно Ролану Барту (и при условии, что роль, которую они призваны играть, остается незначительной и косвенной), исторические имена и фигуры — Гиппократ, Авиценна, Фаллопий, Бургаве, Лаэннек, Ауэнбруггер, Плиний в главе 13; Каплан, Эйзенштейн, Шахтер-Шаломи в главе 8 — действуют как «сверхэффекты реального», которые «уравнивают роман и историю», чтобы «придать роману отблеск реальности». Среди таких имен когномены вроде «рабби Бауман», «Якоб Галлерус», «Хайрам из Монтерби» или «Альберт Дьюонс» звучат слишком реально и легко выдаются за настоящие исторические персоны, хотя, по всей вероятности, они просто выдуманы. Поскольку все эти имена фигурируют в номерах «Доказательств», псевдонаучного журнала, распространяемого Мёрфи, их можно поначалу списать на мистификацию самих Мёрфи и ЛеБова. Однако не все так просто и однозначно, как кажется, поскольку то, чем оперируют «Доказательства» — причудливой смесью исторических фактов и вымысла — присутствует и в других частях романа, прежде всего в изображении еврейского реконструкционизма. Как отмечает Джошуа Коэн в своей рецензии2 на роман, «евреи Маркуса имеют крайне незначительное сходство даже с самыми безумными из тех, кто претендует на эту идентичность». Для Коэна, таким образом, то, что Маркус сделал в «Алфавите», в конечном счете сводится к следующему:
Это пародийное измерение гораздо меньше проявлено в «Алфавите», где используется более традиционный подход к повествованию и который временами даже открыто приглашает читателя заняться герменевтикой — в то время как предыдущие книги Маркуса скорее предостерегали от этого, блокировали или делали такие интерпретационные ходы нелепыми. Заимствования из истории философии и медицины в главе 13 или из религии, когда речь идет о том, в чем состоит еврейский реконструкционизм, практикуемый «лесными евреями» в главе 8, на первый взгляд могут служить эпистемологической и эстетической защитой, поскольку, согласно Ролану Барту (и при условии, что роль, которую они призваны играть, остается незначительной и косвенной), исторические имена и фигуры — Гиппократ, Авиценна, Фаллопий, Бургаве, Лаэннек, Ауэнбруггер, Плиний в главе 13; Каплан, Эйзенштейн, Шахтер-Шаломи в главе 8 — действуют как «сверхэффекты реального», которые «уравнивают роман и историю», чтобы «придать роману отблеск реальности». Среди таких имен когномены вроде «рабби Бауман», «Якоб Галлерус», «Хайрам из Монтерби» или «Альберт Дьюонс» звучат слишком реально и легко выдаются за настоящие исторические персоны, хотя, по всей вероятности, они просто выдуманы. Поскольку все эти имена фигурируют в номерах «Доказательств», псевдонаучного журнала, распространяемого Мёрфи, их можно поначалу списать на мистификацию самих Мёрфи и ЛеБова. Однако не все так просто и однозначно, как кажется, поскольку то, чем оперируют «Доказательства» — причудливой смесью исторических фактов и вымысла — присутствует и в других частях романа, прежде всего в изображении еврейского реконструкционизма. Как отмечает Джошуа Коэн в своей рецензии2 на роман, «евреи Маркуса имеют крайне незначительное сходство даже с самыми безумными из тех, кто претендует на эту идентичность». Для Коэна, таким образом, то, что Маркус сделал в «Алфавите», в конечном счете сводится к следующему:
Он изгнал публичное название религии из её прошлого, чтобы придать ему частный смысл. Он превратил слово «еврей» из названия в слово, в чистый интеллект: фиктивный, нефиксируемый, бескорневой. Это вариация на тему того, что Маркус ранее проделал с тостерами и пылесосами, «погодой» и «сном» [в «Эпохе провода и струны»]. Это также каббалистическая техника.
Техника, целью которой в конечном счете может быть не столько раскрытие смысла и знания, сколько его затуманивание, превращение в недоступное, непостижимое, нерелевантное.
[Вот оно и проявляется, маркусианское, да? И рецензия Коэна своим названием отсылает к фразе из этого красивого фрагмента третьей главы:
[Вот оно и проявляется, маркусианское, да? И рецензия Коэна своим названием отсылает к фразе из этого красивого фрагмента третьей главы:
За несколько месяцев до отъезда большая часть того, что вызывало у нас недомогания, исходила из уст нашей милой дочери. Что-то из этого она сказала, что-то прошептала, что-то прокричала. Она складывала это в слова и записывала, затем читала вслух. Она находила это в книгах, в письмах, создавала у себя в голове. Она наполняла этим рукописные тексты при помощи отточенного в школе почерка: буквы раздувались от сердечек над i. Гласные преображались в рисунки животных. Каждая частица алфавита, которым она писала, походила на жирную, разбухшую от воздуха молекулу, готовую вот-вот лопнуть. Как же это ценно.]
Короче говоря, кажущаяся дружелюбность «Огненного алфавита» к читателю, подкрепленная приемами правдоподобия и повествовательного реализма, в конечном счете может оказаться очередной «приманкой» — обманчивой и гибельной уловкой, чтобы заставить читателя поверить в невозможную сказку, согласно которой «сам язык был, по определению, запретным». Подобно ублюдочной букве огненного алфавита, которую Сэм придумывает в Форсайте, сама книга может, в конце концов, оказаться некнигой, той, которая избегает какого бы то ни было к себе отношения; той, которая исчезает из вашего поля зрения, чья история может быть не более чем оптической иллюзией, ценной не столько тем, что она говорит, сколько тем, чего она не говорит — что она оставляет за кадром, скрывает или отбрасывает, маскирует или отгораживает. В этом смысле «Алфавит», похоже, втайне работает над созданием не-книги, не-истории, абсолютного объекта, что должен ускользнуть и остаться непонятым, насыщенным не-смыслом, как новая секретная надпись Сэма: «Она потребует избыточности и бессмыслицы, встроенных лигатур, которые выражают просто шум, чтобы смягчить суровость смысла, расширить его, замаскировать. Я видел в этом пену, которую нужно было добавить в мою систему, некое средство маскировки». Замаскированная книга; не-книга, выдающая себя за — она проецирует качества, за которыми может безопасно отступить или уйти. То есть, возможно, книга-в-себе, доступ к которой может быть закрыт, а если и нет, то в конце концов он окажется иллюзорным.
Кстати, когда Сэм покидает Форсайт в конце второй части, он проходит мимо пожилого мужчины, уединившегося где-то в помещении под землей — возможная вариация импотентной фигуры отца в начале «Выдающихся американок» — поющего в микрофон «голосом рабби Бёрка. Идеальная имитация». Настолько совершенная, что это вполне может быть голос самого Бёрка.
Является старик Бёрком или нет, Сэм сказать не может. Роман не прояснит этот момент — различие между «настоящим или поддельным», подлинным и притворным, и без того серьезно подорванное выходками Мёрфи/ЛеБова, окончательно рухнуло. Фактически, пропагандируя «один и тот же оттенок сомнения в отношении одного и того же непознаваемого божества» и отдавая предпочтение постоянным «отношениям с неопределенностью», развлекаясь радикальной секретностью наряду с «великим благоговением перед тем, что не может быть объяснено», такое различие неминуемо окажется совершенно необоснованным: «Понимание само по себе не имеет значения, — продолжил Бёрк чуть более спокойно. — Не делайте из него фетиш, ибо оно ничего не даёт взамен. От этой привычки нужно отказаться. Понимание усыпляет нас. Погружает в тёмный и нежелательный сон. Вопросы, подобные этим, не предназначены для решения».
Справедливо. Они и не будут решены, — заключает Вандерхаге. На мой взгляд, очень хорошо сформулированные ключи для мягкого входа, однако же, корпус сопутствующих материалов и моих личных соображений растет экспоненциально и, дабы не расфракталиваться мысью по древу, я засвечу еще некоторые промежуточные заметки по существу в попытке достичь полноты иероглифа.
Вот выше шла речь о том, как Маркус примешивает к реальным персонажам вымышленных — следует отдельно обратить внимание на то, как он вкладывает в уста реальных людей явно придуманные реплики или рассказывает фиктивные эпизоды из их жизней. Это особенно заметно в 35-й главе, которая целиком является оммажем Дэвиду Марксону. Так же устроены и библейские цитаты, которые приводятся в Алфавите — они искажены или откровенно подделаны.
Кстати, когда Сэм покидает Форсайт в конце второй части, он проходит мимо пожилого мужчины, уединившегося где-то в помещении под землей — возможная вариация импотентной фигуры отца в начале «Выдающихся американок» — поющего в микрофон «голосом рабби Бёрка. Идеальная имитация». Настолько совершенная, что это вполне может быть голос самого Бёрка.
Является старик Бёрком или нет, Сэм сказать не может. Роман не прояснит этот момент — различие между «настоящим или поддельным», подлинным и притворным, и без того серьезно подорванное выходками Мёрфи/ЛеБова, окончательно рухнуло. Фактически, пропагандируя «один и тот же оттенок сомнения в отношении одного и того же непознаваемого божества» и отдавая предпочтение постоянным «отношениям с неопределенностью», развлекаясь радикальной секретностью наряду с «великим благоговением перед тем, что не может быть объяснено», такое различие неминуемо окажется совершенно необоснованным: «Понимание само по себе не имеет значения, — продолжил Бёрк чуть более спокойно. — Не делайте из него фетиш, ибо оно ничего не даёт взамен. От этой привычки нужно отказаться. Понимание усыпляет нас. Погружает в тёмный и нежелательный сон. Вопросы, подобные этим, не предназначены для решения».
Справедливо. Они и не будут решены, — заключает Вандерхаге. На мой взгляд, очень хорошо сформулированные ключи для мягкого входа, однако же, корпус сопутствующих материалов и моих личных соображений растет экспоненциально и, дабы не расфракталиваться мысью по древу, я засвечу еще некоторые промежуточные заметки по существу в попытке достичь полноты иероглифа.
Вот выше шла речь о том, как Маркус примешивает к реальным персонажам вымышленных — следует отдельно обратить внимание на то, как он вкладывает в уста реальных людей явно придуманные реплики или рассказывает фиктивные эпизоды из их жизней. Это особенно заметно в 35-й главе, которая целиком является оммажем Дэвиду Марксону. Так же устроены и библейские цитаты, которые приводятся в Алфавите — они искажены или откровенно подделаны.
«И были они убиты своими именами». Из Псалмов. «Берегись имени своего, ибо оно — первый яд». Откровения.
Ср. настоящую цитату из Откр, 20:15 — И кто [чьи имена] не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
Если говорить об именах, то в трех ключевых текстах Маркуса («Эпоха», «Американки», «Алфавит») прослеживается интересная связь. Томпсон в «Алфавите» особым образом, сущностно, рифмуется с Томпсоном в «Эпохе». Как и в «Эпохе», в «Алфавите» фигурирует Пёркинс, и — однажды возникает в «Выдающихся американках» (…техника гадания, восходящая к «Шуму Пёркинса», когда Пёркинс покончил с собой, энергично повторяя собственное имя…) Самая загадочная, скрытая персона — некий Сернье, который появляется во всех трех текстах в одинаковой ипостаси активного философа, такой фигуры, которая всегда находится где-то на периферии истории и будто бы успешно ориентируется в каждой из трех этих реальностей (я убежден, что все три книги описывают единую вселенную, последовательно (обратная хронология: от «Алфавита» к «Американкам», и далее, к «Эпохе») демонстрируют трансформацию мира. События «Алфавита» в конечном итоге приводят мир в состояние, описанное в «Эпохе», и на это есть непрямые, но очень убедительные намеки. Кажется, «Алфавит» — что-то вроде тематического и смыслового приквела к «Эпохе»: в разных исследованиях «Эпохи» иногда встречаются предположения, что мир там, по-видимому, претерпел в прошлом катастрофу, и восстановился в таком странном виде; в «Эпохе» практически никто не разговаривает в привычном нам смысле, все общаются какими-то замороченными способами; в конце «Алфавита» наступает мир без слов, и вообще, судя по всему, проводится идея отказа от словесной коммуникации (форма религиозных таинств, которые запрещают о них говорить, например, ещё до эпидемии речевого вируса); отсюда предположение, что немного странный мир «Алфавита» — предтеча весьма странного мира «Эпохи»). Сернье вскользь упоминается в «Аргументе» — своего рода настроечном предуведомлении, вводящем читателя в диссоциативную реальность «Эпохи»:
Если говорить об именах, то в трех ключевых текстах Маркуса («Эпоха», «Американки», «Алфавит») прослеживается интересная связь. Томпсон в «Алфавите» особым образом, сущностно, рифмуется с Томпсоном в «Эпохе». Как и в «Эпохе», в «Алфавите» фигурирует Пёркинс, и — однажды возникает в «Выдающихся американках» (…техника гадания, восходящая к «Шуму Пёркинса», когда Пёркинс покончил с собой, энергично повторяя собственное имя…) Самая загадочная, скрытая персона — некий Сернье, который появляется во всех трех текстах в одинаковой ипостаси активного философа, такой фигуры, которая всегда находится где-то на периферии истории и будто бы успешно ориентируется в каждой из трех этих реальностей (я убежден, что все три книги описывают единую вселенную, последовательно (обратная хронология: от «Алфавита» к «Американкам», и далее, к «Эпохе») демонстрируют трансформацию мира. События «Алфавита» в конечном итоге приводят мир в состояние, описанное в «Эпохе», и на это есть непрямые, но очень убедительные намеки. Кажется, «Алфавит» — что-то вроде тематического и смыслового приквела к «Эпохе»: в разных исследованиях «Эпохи» иногда встречаются предположения, что мир там, по-видимому, претерпел в прошлом катастрофу, и восстановился в таком странном виде; в «Эпохе» практически никто не разговаривает в привычном нам смысле, все общаются какими-то замороченными способами; в конце «Алфавита» наступает мир без слов, и вообще, судя по всему, проводится идея отказа от словесной коммуникации (форма религиозных таинств, которые запрещают о них говорить, например, ещё до эпидемии речевого вируса); отсюда предположение, что немного странный мир «Алфавита» — предтеча весьма странного мира «Эпохи»). Сернье вскользь упоминается в «Аргументе» — своего рода настроечном предуведомлении, вводящем читателя в диссоциативную реальность «Эпохи»:
Впрочем, Сернье (и другие, пусть и не так жёстко) показал, что внешнее наблюдение оказывает влияние на внутреннюю суть, что всматриваясь в объект, мы разрушаем его своим желанием, что необходимость достоверного представления вынуждает вещь увидеть саму себя или, в противном случае, — искажённой сгинуть в слепоте.
В «Выдающихся американках» Сернье упоминается в исторических справках. Он пропагандирует движение к единому женскому имени, что должно катастрофически ограничить эмоциональные возможности женщин и, вместо того, чтобы объединить их — привести к девичьей войне. Там же, в другом месте, Сернье требует от своих студентов перед посещением его лекций пройти через сонный носок, принуждающий к женской позе во время сна — техника, перенятая им у женщин и модифицированная посредством языковых манипуляций. Наконец, в «Американках» обнаруживается следующий пассаж (болд мой):
Сернье убил Бёрка и был оправдан. Он говорит, что если бы мог всё повторить, то убивал бы Бёрка медленнее. Он хотел бы «продолжать убивать Бёрка». Семья Бёрка молча идёт по своему району в Акроне, а люди насмехаются над ними, скандируя «Бёрк мёртв». Научные труды Бёрка больше не продаются в книжных магазинах. Предложенное Бёрком грамматическое время — Бёрк — отвергнуто Советом по языку Омахи на том основании, что оно делает невероятные вещи слишком правдоподобными, поскольку «не проводит лингвистического различия между тем, что может и что не может произойти». В августе студенты Сернье нападают на семерых мужчин и женщин, которые, как утверждается, были студентами Бёрка, загоняя их в «ящик Томпсона» — прозрачную камеру с подключённой речевой трубкой, где воздействие языка нарушает ритмы их тел, что приводит к судорогам и окончательному физическому аресту. Сернье аплодирует своим студентам в редакционной статье, прося читателей не забывать, что Бёрка убил он. Он обещает, что слово «Бёрк» впредь будет вызывать «стойкую язву на коже». Джейн Дарк незамедлительно принимает это слово как своё первое языковое оружие. Она демонстрирует, что если крикнуть «Бёрк!» маленькой собаке, та больше не сможет идти и вскоре упадёт в измождении.
Особая грамматика времени-имени есть и в «Костюме отца» (см. «Сумму Бена Маркуса»3). Бёрк же, напомню, значимый персонаж «Алфавита». Где, в свою очередь, читаем:
Позднее философы кризиса, такие как Сернье, высмеивали поэтику всего этого. Он осуждал отсутствие фактов, расплывчатые и персонифицированные анекдоты, которые неизбежно извращают возможность настоящего понимания. Личные истории, сказал бы Сернье, являются самым мощным препятствием для истинного постижения этого кризиса. Как только мы засоряем наши мысли местоимениями, они протухают. Идеи и люди не смешиваются.
Я согласен со всем, что говорит Сернье. Но замечу, что сейчас из его рта выползают жуки, и некому больше прочесть то, что он написал.
Я согласен со всем, что говорит Сернье. Но замечу, что сейчас из его рта выползают жуки, и некому больше прочесть то, что он написал.
Дальше. Имя ЛеБов очевидно должно отсылать к известному американскому социолингвисту Уильяму Лабову4 (произносится: ле-бов). Рассказчик Сэмюэл и его антагонист Мёрфи — приветы Беккету, для которого невозможность вразумительной коммуникации стала предметом тотального художественного исследования длиною в жизнь. Имя дочери Сэма — Эстер (см. библейскую Есфирь). Как показывает Инбар Камински в своей компаративистской статье5 о романах Филипа Рота и Бена Маркуса «Эпидемический иудаизм: Чума и что ее вызывает», Эстер — первое имя, с которым читатель сталкивается в первом же предложении романа, и которое само по себе свидетельствует об акте сокрытия [подробнее об акте сокрытия — ниже]: «Мы уехали в учебный день, чтобы Эстер нас не видела».
Речевая лихорадка, представленная в «Огненном алфавите», к слову, имеет множество потенциальных аллегорических значений, но наиболее яркое из них — аллегория постмодернизма. И если постмодернизм — это прежде всего крах великих нарративов (Лиотар), то его можно воспринимать как аналог языковой токсичности, которая ведет к устареванию устной и письменной коммуникации, заставляя главного героя искать новую форму общения. Марксистский подход к постмодернизму утверждает, что это «потребление чистой коммодификации как процесса» (Джеймисон). Эта позиция также может объяснить языковую токсичность как аллегорию постмодернистского процесса, в котором язык превращается из инструмента, способствующего коммодификации, в товар, из инструмента отслеживания вещи в саму вещь и, таким образом, становится непригодным для использования.
Речевая лихорадка, представленная в «Огненном алфавите», к слову, имеет множество потенциальных аллегорических значений, но наиболее яркое из них — аллегория постмодернизма. И если постмодернизм — это прежде всего крах великих нарративов (Лиотар), то его можно воспринимать как аналог языковой токсичности, которая ведет к устареванию устной и письменной коммуникации, заставляя главного героя искать новую форму общения. Марксистский подход к постмодернизму утверждает, что это «потребление чистой коммодификации как процесса» (Джеймисон). Эта позиция также может объяснить языковую токсичность как аллегорию постмодернистского процесса, в котором язык превращается из инструмента, способствующего коммодификации, в товар, из инструмента отслеживания вещи в саму вещь и, таким образом, становится непригодным для использования.

Камински очень тонко прозревает неочевидные основания «Алфавита», когда пишет, что есть, помимо прочих, интересный способ наблюдать за повествованием о чуме, который противоречит коллективному аспекту мора, но в то же время может пролить свет на индивидуальный опыт Сэма, страдающего от непреодолимых симптомов языковой токсичности. В самом деле, логично, что, поскольку язык — это одновременно и коллективный инструмент общения, и индивидуальный инструмент личных мыслей и творческих идей, его токсичность может быть рассмотрена через ту же дихотомию. Это коллективная угроза человечеству, но каждый человек сам по себе должен переживать ее по-своему. Поскольку повествование ведется от первого лица, обозначенный человек — это рассказчик, и его личная борьба с речевой лихорадкой не обязательно соответствует коллективной борьбе с чумой.
Действительно, коллективный аспект чумы в «Алфавите» можно рассматривать как фасад. О чуме сообщает рассказчик от первого лица, чья достоверность оказывается под сомнением в свете того, что в строго нарратологических терминах он не всеведущ, а скорее является диегетическим агентом в сфере сюжета. Поэтому рассказчик не обладает информацией о токсичности языка в целом, а только о своей собственной. Более того, темы сокрытия и провала человеческой коммуникации эхом разносятся по всему повествованию, как будто декларируя невозможность получения знания о других. По-настоящему Сэм может изобразить только свою собственную «речевую лихорадку».
Если это действительно чума одного, то она предполагает встречу с собственным синтомом нарратора. Согласно Жижеку [вообще-то, Лакану], синтом — это «психотическое ядро, которое нельзя ни интерпретировать (как симптом), ни "обойти" (как фантазию), неустранимый элемент бытия и конечная опора последовательности субъекта. Точка, обозначающая измерение того, что в субъекте больше, чем он сам, и что он поэтому "любит больше, чем себя"». Встреча Сэма со своим синтомом может объяснить висцеральные реакции, которые он испытывает перед лицом материализации языка: «Тошнота охватывала нас, когда мы видели это, слышали это, когда позже соприкасались с этим в своих мыслях. Мы пировали на этом мерзком материале, потому что его сотворила наша дочь. Мы наедались им, и внутри оно прело, сгнивало, превращалось в труху».
Развивающаяся токсичность языка, которую рассказчик испытывает на протяжении всего повествования, по сути, является запретом, кульминацией которого становится неспособность Сэма обрабатывать любые формы языка (устные, письменные, декодированные), кроме его собственных мыслей. В конце концов Сэм задается вопросом, почему он не был отравлен своими собственными мыслями с самого начала:
Действительно, коллективный аспект чумы в «Алфавите» можно рассматривать как фасад. О чуме сообщает рассказчик от первого лица, чья достоверность оказывается под сомнением в свете того, что в строго нарратологических терминах он не всеведущ, а скорее является диегетическим агентом в сфере сюжета. Поэтому рассказчик не обладает информацией о токсичности языка в целом, а только о своей собственной. Более того, темы сокрытия и провала человеческой коммуникации эхом разносятся по всему повествованию, как будто декларируя невозможность получения знания о других. По-настоящему Сэм может изобразить только свою собственную «речевую лихорадку».
Если это действительно чума одного, то она предполагает встречу с собственным синтомом нарратора. Согласно Жижеку [вообще-то, Лакану], синтом — это «психотическое ядро, которое нельзя ни интерпретировать (как симптом), ни "обойти" (как фантазию), неустранимый элемент бытия и конечная опора последовательности субъекта. Точка, обозначающая измерение того, что в субъекте больше, чем он сам, и что он поэтому "любит больше, чем себя"». Встреча Сэма со своим синтомом может объяснить висцеральные реакции, которые он испытывает перед лицом материализации языка: «Тошнота охватывала нас, когда мы видели это, слышали это, когда позже соприкасались с этим в своих мыслях. Мы пировали на этом мерзком материале, потому что его сотворила наша дочь. Мы наедались им, и внутри оно прело, сгнивало, превращалось в труху».
Развивающаяся токсичность языка, которую рассказчик испытывает на протяжении всего повествования, по сути, является запретом, кульминацией которого становится неспособность Сэма обрабатывать любые формы языка (устные, письменные, декодированные), кроме его собственных мыслей. В конце концов Сэм задается вопросом, почему он не был отравлен своими собственными мыслями с самого начала:
Мышление — это первый яд, сказал кто-то. В кризисных ситуациях об этом обычно не спрашивают. Но почему не было хуже? Почему сам человек не был выпотрошен от мыслей? Когда заботятся о том, чтобы слово стало достоянием общественности, оно наносит больший ущерб, индивидуальный. Сначала нужно было остановить мышление. Мышление. Возможно, оно следующее в долгом, ползучем завоевании этой токсичности, ещё одна основная человеческая деятельность, которую у нас постепенно отнимут. О, я чертовски на это надеюсь…
Хотя рассказчик не предлагает никаких решений этого парадокса, его можно легко объяснить процессом запрета, который следует за тупиком встречи со своим синтомом; эта встреча порождает сильный ужас внутри субъекта, тот запускает процесс запрета, в котором препятствие экстернализируется. Таким образом, если внутренний язык повествователя остается нетронутым и безвредным, то внешний язык ему вредит.
Знаменательна и особая эволюция чумы рассказчика: она начинается с произнесенного слова, с голоса Эстер, его дочери, и заканчивается внезапно, когда пораженный отец ожидает ее возвращения — «Теперь в наступающей темноте я могу только ждать возвращения Эстер». Эстер — еврейское имя, которое ассоциируется с сокрытием и масками; библейская история гласит, что настоящее имя Эстер — Хадасса, а свиток Эстер — религиозное начало Пурима, еврейского эквивалента Хэллоуина. Таким образом, Эстер становится не только разносчиком чумы через свои ядовитые слова, но и эмблемой речевой лихорадки — препятствием для нарративизации, преградой в процессе рассказывания истории. Эстер можно воспринимать как экстернализированный объект, следующий за процессом запрета Сэма; не ребенок вовсе, а скорее символическое препятствие…
Ммм… Кстати, Джордж Сондерс резонно указывает6, что работы Маркуса используют священный трепет перед языком для поиска эмоционально резонансной новизны. Воздействие на читателя состоит в обновлении его отношения к языку, то есть — отношения к жизни. Сондерса восхитило то, как в предисловии к одной из составленных им антологий Маркус лаконично изложил важную и недооцененную идею: «основная цель повествования — это волшебство, достигаемое таинственными средствами — и то, что мы [писатели] делаем, в конечном итоге не является аналитическим или линейным делом. Наша цель — восторг».
Пожалуй, я буду закругляться сейчас, потому что могу продолжать бесконечно. Напоследок процитирую место, где «Алфавит» перекликается с «Эпохой» нагляднее всего:
Знаменательна и особая эволюция чумы рассказчика: она начинается с произнесенного слова, с голоса Эстер, его дочери, и заканчивается внезапно, когда пораженный отец ожидает ее возвращения — «Теперь в наступающей темноте я могу только ждать возвращения Эстер». Эстер — еврейское имя, которое ассоциируется с сокрытием и масками; библейская история гласит, что настоящее имя Эстер — Хадасса, а свиток Эстер — религиозное начало Пурима, еврейского эквивалента Хэллоуина. Таким образом, Эстер становится не только разносчиком чумы через свои ядовитые слова, но и эмблемой речевой лихорадки — препятствием для нарративизации, преградой в процессе рассказывания истории. Эстер можно воспринимать как экстернализированный объект, следующий за процессом запрета Сэма; не ребенок вовсе, а скорее символическое препятствие…
Ммм… Кстати, Джордж Сондерс резонно указывает6, что работы Маркуса используют священный трепет перед языком для поиска эмоционально резонансной новизны. Воздействие на читателя состоит в обновлении его отношения к языку, то есть — отношения к жизни. Сондерса восхитило то, как в предисловии к одной из составленных им антологий Маркус лаконично изложил важную и недооцененную идею: «основная цель повествования — это волшебство, достигаемое таинственными средствами — и то, что мы [писатели] делаем, в конечном итоге не является аналитическим или линейным делом. Наша цель — восторг».
Пожалуй, я буду закругляться сейчас, потому что могу продолжать бесконечно. Напоследок процитирую место, где «Алфавит» перекликается с «Эпохой» нагляднее всего:
В конце ноября мой почтовый ящик заполонили документы. Завёрнутые в пеньку распечатки, без адреса и почтовых штампов. Это было моё первое знакомство с «Доказательствами» — медицинской листовкой ЛеБова, которую Мёрфи отрекомендовал обязательной к прочтению. Она напоминала университетскую газету, только до странности раздутую, её истории были невнятны, факты — туманны.
Бледно-голубой текст, словно проступившие под кожей письмена. Иллюстрации — карты заболеваемости, линии эпидемического периметра и схемы модулей, нарисованные трясущейся рукой. На этих рисунках микробы уподоблялись людям или зверям, а вирусы походили на мир, увиденный с расстояния в многие мили. Речь на лицах детей изображалась в уродливой цветовой гамме, причём каждый цвет кодировался диаграммой недугов.
Бледно-голубой текст, словно проступившие под кожей письмена. Иллюстрации — карты заболеваемости, линии эпидемического периметра и схемы модулей, нарисованные трясущейся рукой. На этих рисунках микробы уподоблялись людям или зверям, а вирусы походили на мир, увиденный с расстояния в многие мили. Речь на лицах детей изображалась в уродливой цветовой гамме, причём каждый цвет кодировался диаграммой недугов.
И далее:
Практика курения языковых материалов зародилась в Боливии, но быстро распространилась на север. В Мехико она доведена до совершенства. Слова и предложения проверяются делегатом в наполненной дымом трубе, в конце которой находится жертвенный слушатель, называемый, по неизвестным причинам, колоколом. Когда мозг колокола умирает, его извлекают и разделяют на батончики. Батончики маркируют, им присваивают имена. Сохранились только рисунки.
Засим откланиваюсь, бросая на прощание ключевой тезис «Огненного алфавита», манифест из двух предложений.
Любые объяснения, по сути, просто вымерли. Как множество других исчезнувших риторических модусов.
Биография и библиография Бена Маркуса
Страница романа "Эпоха провода и струны" Бена Маркуса
Биография и библиография Бена Маркуса
Страница романа "Эпоха провода и струны" Бена Маркуса


