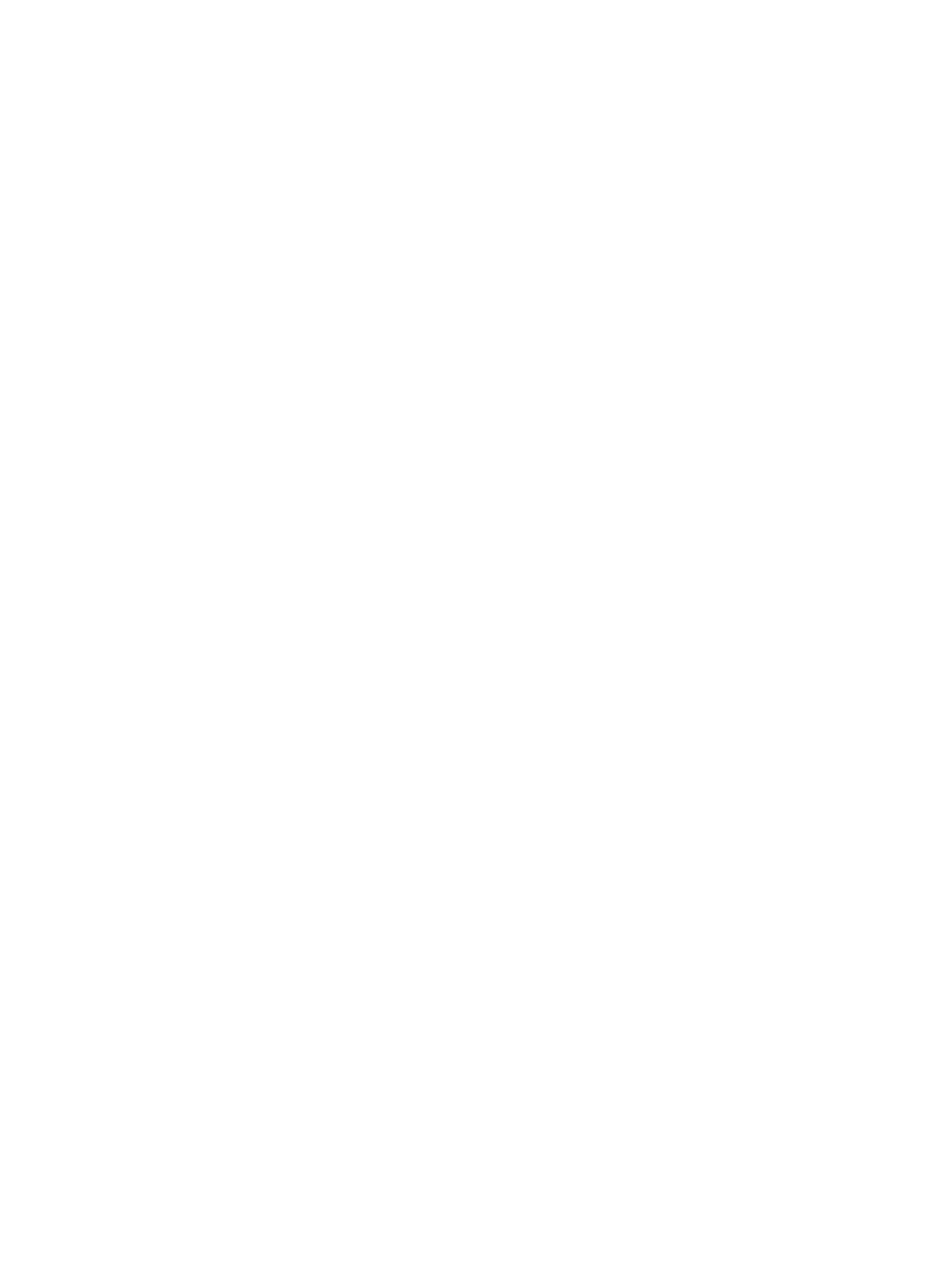Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
https://t.me/bentonia/60
https://en.wikipedia.org/wiki
/Florida_Man
/Florida_Man
По мнению автора статьи верное написание имени: Гэрри. Текст статьи приведен в единообразие с написанием имени автора в опубликованных книгах. – прим. Kongress W.
Вечный полдень: О визите к Джозефу Макэлрою
Автор Джордж Салис
перевод Ульяны Мытаревой
редактор Стас Кин
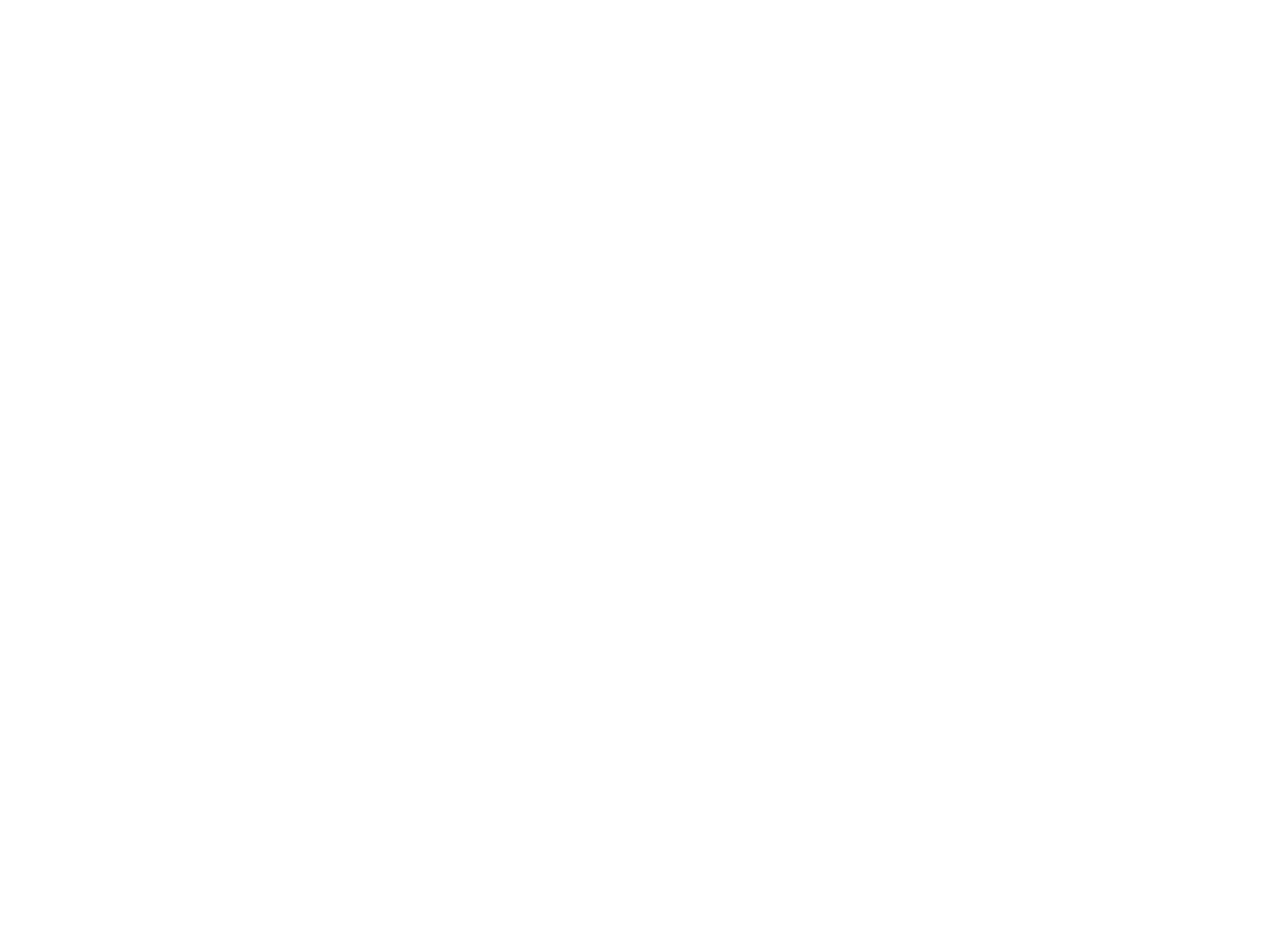
Джордж Салис в своем кабинете в Шарлотте, Северная Каролина.
Если то, что Макэлрой говорит о романах — правда, и они действительно лишь упражнение в «содержательных прерываниях», это может оказаться правдой и для жизни в целом. Сегодня 9 июня 2022 года. Впечатляющих 92-х лет от роду, Макэлрой сидит напротив меня за столиком снаружи Bubby’s. Он сразу предупреждает, что бережет свое время: на свете куча людей, включая молодых писателей, которые жаждут отнять у него время, как если бы он носил бесценные песчинки из часов в нагрудном кармане рубашки в бело-зеленую, цвета папоротника, клетку, где лежат и очки для чтения в черной оправе, и светло-голубой маркер, и прочие принадлежности. Отвечаю, что полностью понимаю, но он продолжает настаивать, говоря, что я начну понимать это куда лучше, когда доживу до его возраста.
Учитывая сокращение средней продолжительности жизни в США, войти в пантеон долгожителей было бы огромной удачей…
К слову об удаче: примерно полтора года ушло на подготовку интервью с Макэлроем для моего литературного интернет-издания The Collidescope, хотя, как только нам удалось установить контакт, мы периодически обменивались письмами по электронной почте, и часть этой корреспонденции принесла немалую пользу при написании обзора в духе ДЫХАТЕЛЕЙ на его magnum opus — «Женщины и мужчины», названный в Publisher’s Weekly одной из десяти самых трудных для прочтения книг всех времен и насчитывающий 1200 насыщенных смыслом, но зачастую восхитительных и откровенных страниц о Нью-Йорке 70-х и его жителях, описывающий высшие и будуще-прошлые измерения, включая двух протагонистов, Джима Мэйна и Грейс Кимбалл, которые никогда не встретятся, хотя их истории и пересекаются множество раз. Когда читаешь роман подобных масштабов, разве ожидаешь получить от автора еще какой-то материал, кроме того, что Уильям Гэддис называл «останками человека» и «отходами его творчества»? Каждый писатель, чей труд ценится, должен пытаться в какой-то мере превзойти самого себя. Макэлрой вспоминает слова Уильяма Гэсса: «Мои книги куда умнее меня». Но вместо останков, вместо отходов, я все еще вижу перед собой рецепт, чертеж, ДНК, послужившие основанием для появления великих литературных произведений. Получатель Макэлрой или источник, посредник или создатель, они все равно не существовали бы без него. Кто, склонившись над лужицей первичного бульона, не пришел бы в восторг и не захотел узнать, что случится дальше, помимо того, что уже случилось?
Глазницы Макэлроя правильно подчеркивают цвет глаз — ярко-карие, взгляд Макэлроя безотрывен почти на всем протяжении диалога, что лишь усугубляет гипнотический и пугающий эффект. Его описание персонажа из рассказа «Жертва ограбления» совершенно точно применимо к нему самому в нескольких смыслах одновременно: «…у его глаз был собственный образ видения». Волосы у него по-эйнштейновски белые, только чуть короче и куда послушнее, чем у достопамятного гения физики, а линия роста настолько высоко, что под определенным углом и в правильном свете кажется, будто это нимб цвета побелевшей кости. Не считая нескольких снежно-белых нитей в правой, брови сохранили русый оттенок, хоть и приобрели налет седины.
В попытке растопить лед спрашиваю, относится ли Bubby’s к числу его любимых ресторанов. Он отвечает отрицательно, отмечая, сколько заведений открывалось и закрывалось и что обычно он ест дома: это лишь усиливает мое напряжение, ведь я навязываюсь, попусту тратя время девяностолетнего писателя. Ну и как тогда разрядить обстановку? Если Кафка был прав, то общая тема литературы станет ключом или, скорее, ледорубом для бескрайних замерзших вод. Само собой, во время встречи я не думаю о Кафке, но в какой-то момент перехожу от светской беседы об обеденных привычках к большому разговору о «Моби Дике», упоминая, как впервые прочитал его в тандеме с другом из Канады. Незадолго до того Макэлрой говорил, как редко читает современную художественную литературу. Я отвечаю тем же, хотя интересуюсь в основном литературой XX-го века и не уверен, считает ли он ее достаточно современной. Не считает.
Несмотря на явно запоздалое прочтение романа, подчеркиваю: момент, когда я его прочитал, показался мне идеальным, и, уже имея в своем читательском багаже такие непростые шедевры, как «Улисс» и «Женщины и мужчины», я был готов по достоинству оценить его структуру, в которой история кита становится экскурсом в океане цетологических отступлений и прочего, где отступления и составляют всю суть произведения. Молодого меня, вероятно, одолела бы скука; я бы не смог наслаждаться его своеобычным и, несомненно, в каком-то смысле новаторским устройством. Отмечаю, насколько это смешно, насколько непредсказуемо: правильный момент прочтения может принести громадную пользу, а неверный — совсем наоборот.
Джозеф спрашивает, помню ли я главу 87.
— Не уверен. А какое у нее название?
— «Великая армада».
Хмм, ничего не приходит на ум. «О белизне кита», например, в памяти засела прочно.
— Та, в которой матери-киты производят детенышей на свет.
— Ах да, та самая.
Глубина и выраженность носогубных складок Джозефа, морщины-марионетки производят именно такое впечатление, словно рот куклы чревовещателя, только здесь нет никаких сомнений в том, что каждое произнесенное слово исходит от него самого и писателей, расцветивших его ум: Набокова, Пинчона, Кальвино и других. На самом деле в его голосе слышится какая-то умудренная глубина, напоминающая моего куда менее образованного дедушку. Не просто успокаивающая, но захватывающая слух. Джозеф говорит: «Эта глава не похожа ни на что из написанного Мелвиллом прежде. Среди всех американских писателей он обладал самым ярким умом».
Отрывок из этой восхитительной главы:
Учитывая сокращение средней продолжительности жизни в США, войти в пантеон долгожителей было бы огромной удачей…
К слову об удаче: примерно полтора года ушло на подготовку интервью с Макэлроем для моего литературного интернет-издания The Collidescope, хотя, как только нам удалось установить контакт, мы периодически обменивались письмами по электронной почте, и часть этой корреспонденции принесла немалую пользу при написании обзора в духе ДЫХАТЕЛЕЙ на его magnum opus — «Женщины и мужчины», названный в Publisher’s Weekly одной из десяти самых трудных для прочтения книг всех времен и насчитывающий 1200 насыщенных смыслом, но зачастую восхитительных и откровенных страниц о Нью-Йорке 70-х и его жителях, описывающий высшие и будуще-прошлые измерения, включая двух протагонистов, Джима Мэйна и Грейс Кимбалл, которые никогда не встретятся, хотя их истории и пересекаются множество раз. Когда читаешь роман подобных масштабов, разве ожидаешь получить от автора еще какой-то материал, кроме того, что Уильям Гэддис называл «останками человека» и «отходами его творчества»? Каждый писатель, чей труд ценится, должен пытаться в какой-то мере превзойти самого себя. Макэлрой вспоминает слова Уильяма Гэсса: «Мои книги куда умнее меня». Но вместо останков, вместо отходов, я все еще вижу перед собой рецепт, чертеж, ДНК, послужившие основанием для появления великих литературных произведений. Получатель Макэлрой или источник, посредник или создатель, они все равно не существовали бы без него. Кто, склонившись над лужицей первичного бульона, не пришел бы в восторг и не захотел узнать, что случится дальше, помимо того, что уже случилось?
Глазницы Макэлроя правильно подчеркивают цвет глаз — ярко-карие, взгляд Макэлроя безотрывен почти на всем протяжении диалога, что лишь усугубляет гипнотический и пугающий эффект. Его описание персонажа из рассказа «Жертва ограбления» совершенно точно применимо к нему самому в нескольких смыслах одновременно: «…у его глаз был собственный образ видения». Волосы у него по-эйнштейновски белые, только чуть короче и куда послушнее, чем у достопамятного гения физики, а линия роста настолько высоко, что под определенным углом и в правильном свете кажется, будто это нимб цвета побелевшей кости. Не считая нескольких снежно-белых нитей в правой, брови сохранили русый оттенок, хоть и приобрели налет седины.
В попытке растопить лед спрашиваю, относится ли Bubby’s к числу его любимых ресторанов. Он отвечает отрицательно, отмечая, сколько заведений открывалось и закрывалось и что обычно он ест дома: это лишь усиливает мое напряжение, ведь я навязываюсь, попусту тратя время девяностолетнего писателя. Ну и как тогда разрядить обстановку? Если Кафка был прав, то общая тема литературы станет ключом или, скорее, ледорубом для бескрайних замерзших вод. Само собой, во время встречи я не думаю о Кафке, но в какой-то момент перехожу от светской беседы об обеденных привычках к большому разговору о «Моби Дике», упоминая, как впервые прочитал его в тандеме с другом из Канады. Незадолго до того Макэлрой говорил, как редко читает современную художественную литературу. Я отвечаю тем же, хотя интересуюсь в основном литературой XX-го века и не уверен, считает ли он ее достаточно современной. Не считает.
Несмотря на явно запоздалое прочтение романа, подчеркиваю: момент, когда я его прочитал, показался мне идеальным, и, уже имея в своем читательском багаже такие непростые шедевры, как «Улисс» и «Женщины и мужчины», я был готов по достоинству оценить его структуру, в которой история кита становится экскурсом в океане цетологических отступлений и прочего, где отступления и составляют всю суть произведения. Молодого меня, вероятно, одолела бы скука; я бы не смог наслаждаться его своеобычным и, несомненно, в каком-то смысле новаторским устройством. Отмечаю, насколько это смешно, насколько непредсказуемо: правильный момент прочтения может принести громадную пользу, а неверный — совсем наоборот.
Джозеф спрашивает, помню ли я главу 87.
— Не уверен. А какое у нее название?
— «Великая армада».
Хмм, ничего не приходит на ум. «О белизне кита», например, в памяти засела прочно.
— Та, в которой матери-киты производят детенышей на свет.
— Ах да, та самая.
Глубина и выраженность носогубных складок Джозефа, морщины-марионетки производят именно такое впечатление, словно рот куклы чревовещателя, только здесь нет никаких сомнений в том, что каждое произнесенное слово исходит от него самого и писателей, расцветивших его ум: Набокова, Пинчона, Кальвино и других. На самом деле в его голосе слышится какая-то умудренная глубина, напоминающая моего куда менее образованного дедушку. Не просто успокаивающая, но захватывающая слух. Джозеф говорит: «Эта глава не похожа ни на что из написанного Мелвиллом прежде. Среди всех американских писателей он обладал самым ярким умом».
Отрывок из этой восхитительной главы:
А в глубине под этим безмятежным миром нашим глазам, когда мы заглядывали за борт, открывался иной мир, ещё более странный и удивительный. Там, повиснув под текучими сводами, плавали кормящие матери-китихи и другие, кому, судя по их грандиозным талиям, в скором времени предстояло стать матерями. Озеро, по которому мы скользили, было, как я уже заметил выше, чрезвычайно прозрачным на большую глубину; и подобно тому как человеческий младенец, сосущий материнскую грудь, глядит спокойным, ровным взглядом куда-то в сторону, словно в одно и то же время живет двумя разными жизнями, и, впивая пищу земную, пирует ещё и духовно, вкушая неземные воспоминания, так и те юные китята, казалось, глядели в нашу сторону, но не видели нас, словно их новорожденному взору мы представлялись лишь пучками бурых водорослей.
(пер. И. Бернштейн)
(пер. И. Бернштейн)
Когда Кормак Маккарти посещал Джозефа в его квартире и увидел книжные полки, то сразу спросил: «И ты все это прочитал»? Джозеф ответил отрицательно, и тогда Маккарти продолжил: «Какой смысл хранить книги на полках, если ты их не читал»? Джозеф мгновенно парировал (но теперь, когда рассказывает об этом мне, уже с ухмылкой): «Знаешь, Кормак, когда я прочитываю книгу, она имеет тенденцию исчезать» — и сделал движение кистью, подобное тому, каким прогоняют собаку. Тем не менее Джозеф все еще верит в силу перечитывания и говорит, что это очень важно, но зависит от случая. Можно подумать еще о повторном просмотре. После первого просмотра ему не особо понравилась пьеса «Как вам это понравится», но после второго мнение поменялось.
Владимир Набоков утверждал, что книгу нельзя прочитать — ее можно лишь перечитать. «Великий Гэтсби» и «Космос» Сагана — пара из весьма небольшого количества произведений, которые мне случалось перечитывать. Бесспорно, существует и целая бесконечность не открытых мною даже единожды, и перечитывание походит на кражу у нового опыта, хотя, если пройдет достаточно времени, текст любой книги может забыться, тем самым возвращая ее к состоянию почти не читанной, пока не останется только воспоминание об ощущениях, ощущение воспоминания или еще меньше того. Я отчасти рассматриваю свои усилия как отбраковку дешевого чтива в настоящем, чтобы в будущем я мог возвращаться к произведениям, оставившим неизгладимый след. Опять же, дожить до такого почтенного возраста — огромная удача.
Одна из книг, к которой мне нравится возвращаться — «Бледный король» Дэвида Фостера Уоллеса. Джозеф ее не читал. Я привожу ее как пример чего-то пусть и не покорившего меня полностью и местами нагоняющего тоску: сам роман — амбициозный проект по исследованию скуки, однако опыт остался со мной, как и в случае со «Сталкером» Тарковского.
Так почему же книга не стерлась из памяти?
Хороший вопрос. Четкого ответа у меня нет. Я уже думал об этом, прежде чем пытаться объяснить нечто, вероятно, до конца не выразимое: пугающе удушающее и тревожное повествование, например. Сцены любопытной обыденности, как бы парадоксально это ни звучало. Наряду с фрагментами безусловного откровения, как с мальчиком, пытающимся поцеловать каждую часть своего же тела, что заканчивается экзистенциальной невозможностью поцеловать собственные губы.
У Джозефа крупные кисти с выступающими венами и парой синяков, будто чернильные кляксы, а ногти являют собой сущность некусанной безупречности. Едва уловимая дрожь в руке, тянущейся к чашке или держащей столовый прибор — неотъемлемая часть непреклонной воли. Он рассказывает, как издательство просило его написать аннотацию к дебютному роману Дэвида Фостера Уоллеса «Метла системы», но дел было невпроворот, и он попросту не имел возможности, несмотря на желание. В конце концов все-таки прочитал книгу и остался весьма высокого о ней мнения. Да и в целом ему понравилось почти все, написанное Уоллесом. По какой-то причине он никогда не читал «Бесконечную шутку» целиком — только частями — но помнит, что в ней довольно много упоминаний наркотиков.
О да.
В аннотации итальянского перевода «Женщин и мужчин» сравнивают с «Бесконечной шуткой». «Вряд ли мой роман похож на „Бесконечную шутку“», — говорит он.
Я соглашаюсь: это проделки ленивых маркетологов, приводящих такое сравнение исключительно из-за популярности «Бесконечной шутки». И упоминаю о почти магическом духе времени, позволившем роману обрести популярность несмотря на ужасающе низкий уровень продаж.
— Думаю, так и есть, — отвечает Макэлрой. Все сложилось на редкость удачно, и роман имел успех вопреки всем обстоятельствам.
К слову о бессмысленном и беспощадном маркетинге: вспоминается обложка «Утки, Ньюберипорт», на которой красовалась надпись: «”Улиссу“ такое и не снилось».
Джозеф качает головой. Говорит, между этими романами нет никакого сходства. Интересно, читали ли люди, составляющие аннотации, романы, которые сами же и аннотировали.
Это не совпадение, что фамилия жены Джозефа — Эллманн — такая же, как у великого биографа Джеймса Джойса, Ричарда Эллмана: она приходится ему племянницей. Следовательно, Люси Эллманн, автор «Утки, Ньюберипорт» — свояченица Макэлроя. Джозеф говорит, что в романе есть несколько приемов, которые не совсем работают, но в целом считает книгу достойным восхищения трудом, полным увлекательных подробностей. Тем не менее он подчеркивает: это не одно цельное предложение. Я писал ровно то же самое в обзоре на книгу: «Бесчисленное множество моментов на каждой странице, когда вместо запятой вполне можно было бы поставить точку. Полагаю, запятые являются, скорее, визуальным феноменом, нежели грамматической необходимостью». Мы оба согласны с тем, что заявка на титул романа-в-одном-предложении — маркетинговый ход. Вместо этого Джо называет его собранием прерываний. И произносит как своеобразную максиму: пока романист живет свою жизнь, роман — «содержательные прерывания». Помимо вложенного в него, следует поинтересоваться тем, что отсутствует, что не вложено, будь то следствие осознанного выбора или не-.
Владимир Набоков утверждал, что книгу нельзя прочитать — ее можно лишь перечитать. «Великий Гэтсби» и «Космос» Сагана — пара из весьма небольшого количества произведений, которые мне случалось перечитывать. Бесспорно, существует и целая бесконечность не открытых мною даже единожды, и перечитывание походит на кражу у нового опыта, хотя, если пройдет достаточно времени, текст любой книги может забыться, тем самым возвращая ее к состоянию почти не читанной, пока не останется только воспоминание об ощущениях, ощущение воспоминания или еще меньше того. Я отчасти рассматриваю свои усилия как отбраковку дешевого чтива в настоящем, чтобы в будущем я мог возвращаться к произведениям, оставившим неизгладимый след. Опять же, дожить до такого почтенного возраста — огромная удача.
Одна из книг, к которой мне нравится возвращаться — «Бледный король» Дэвида Фостера Уоллеса. Джозеф ее не читал. Я привожу ее как пример чего-то пусть и не покорившего меня полностью и местами нагоняющего тоску: сам роман — амбициозный проект по исследованию скуки, однако опыт остался со мной, как и в случае со «Сталкером» Тарковского.
Так почему же книга не стерлась из памяти?
Хороший вопрос. Четкого ответа у меня нет. Я уже думал об этом, прежде чем пытаться объяснить нечто, вероятно, до конца не выразимое: пугающе удушающее и тревожное повествование, например. Сцены любопытной обыденности, как бы парадоксально это ни звучало. Наряду с фрагментами безусловного откровения, как с мальчиком, пытающимся поцеловать каждую часть своего же тела, что заканчивается экзистенциальной невозможностью поцеловать собственные губы.
У Джозефа крупные кисти с выступающими венами и парой синяков, будто чернильные кляксы, а ногти являют собой сущность некусанной безупречности. Едва уловимая дрожь в руке, тянущейся к чашке или держащей столовый прибор — неотъемлемая часть непреклонной воли. Он рассказывает, как издательство просило его написать аннотацию к дебютному роману Дэвида Фостера Уоллеса «Метла системы», но дел было невпроворот, и он попросту не имел возможности, несмотря на желание. В конце концов все-таки прочитал книгу и остался весьма высокого о ней мнения. Да и в целом ему понравилось почти все, написанное Уоллесом. По какой-то причине он никогда не читал «Бесконечную шутку» целиком — только частями — но помнит, что в ней довольно много упоминаний наркотиков.
О да.
В аннотации итальянского перевода «Женщин и мужчин» сравнивают с «Бесконечной шуткой». «Вряд ли мой роман похож на „Бесконечную шутку“», — говорит он.
Я соглашаюсь: это проделки ленивых маркетологов, приводящих такое сравнение исключительно из-за популярности «Бесконечной шутки». И упоминаю о почти магическом духе времени, позволившем роману обрести популярность несмотря на ужасающе низкий уровень продаж.
— Думаю, так и есть, — отвечает Макэлрой. Все сложилось на редкость удачно, и роман имел успех вопреки всем обстоятельствам.
К слову о бессмысленном и беспощадном маркетинге: вспоминается обложка «Утки, Ньюберипорт», на которой красовалась надпись: «”Улиссу“ такое и не снилось».
Джозеф качает головой. Говорит, между этими романами нет никакого сходства. Интересно, читали ли люди, составляющие аннотации, романы, которые сами же и аннотировали.
Это не совпадение, что фамилия жены Джозефа — Эллманн — такая же, как у великого биографа Джеймса Джойса, Ричарда Эллмана: она приходится ему племянницей. Следовательно, Люси Эллманн, автор «Утки, Ньюберипорт» — свояченица Макэлроя. Джозеф говорит, что в романе есть несколько приемов, которые не совсем работают, но в целом считает книгу достойным восхищения трудом, полным увлекательных подробностей. Тем не менее он подчеркивает: это не одно цельное предложение. Я писал ровно то же самое в обзоре на книгу: «Бесчисленное множество моментов на каждой странице, когда вместо запятой вполне можно было бы поставить точку. Полагаю, запятые являются, скорее, визуальным феноменом, нежели грамматической необходимостью». Мы оба согласны с тем, что заявка на титул романа-в-одном-предложении — маркетинговый ход. Вместо этого Джо называет его собранием прерываний. И произносит как своеобразную максиму: пока романист живет свою жизнь, роман — «содержательные прерывания». Помимо вложенного в него, следует поинтересоваться тем, что отсутствует, что не вложено, будь то следствие осознанного выбора или не-.
Джозеф заказал сэндвич с индейкой, беконом и авокадо и томатный суп, а я — миску овощного чили за 15 баксов без сыра и сметаны — единственную веганскую опцию в меню. На протяжении всей нашей беседы он в родительской манере продолжает интересоваться, наемся ли я этим, но в итоге я все равно остаюсь голодным.
— Как веган, — говорит он в какой-то момент, — ты, наверное, более восприимчив к взгляду животных, видишь в их глазах нечто большее.
— После того, как Кафка стал вегетарианцем, — отвечаю я ему, — он пошел в аквариум и смотрел в глаза рыбе, освобождая себя от груза словами: «Теперь я могу спокойно смотреть тебе в глаза; я больше не ем тебе подобных».
Джозефу это напомнило историю о близком контакте с аллигатором в зоопарке: он и доисторическая рептилия смотрели друг на друга через намытое небытие стекла — человек и зверь примирились друг с другом? Как бы не так: аллигатор медленно раскрыл пасть шириной во весь небосвод (тут Джозеф пытается изобразить это с помощью рук) и, не прерывая зрительный контакт, резко сомкнул челюсти (руки Джозефа смыкаются с хлопком, слегка пугая меня). Макэлрой произносит с оттенком неизбежности, рока в голосе: «Я точно знаю, аллигатор думал только об одном: если бы он мог, то сомкнул бы челюсти вокруг моей головы».
Не сомневаюсь. С точки зрения эволюции аллигаторы за прошедшие миллионы лет почти не изменились. Они буквально динозавры, топчущие нашу планету; каждый из них — максимально эффективная машина для убийства, какую природа только смогла создать.
— Как веган, — говорит он в какой-то момент, — ты, наверное, более восприимчив к взгляду животных, видишь в их глазах нечто большее.
— После того, как Кафка стал вегетарианцем, — отвечаю я ему, — он пошел в аквариум и смотрел в глаза рыбе, освобождая себя от груза словами: «Теперь я могу спокойно смотреть тебе в глаза; я больше не ем тебе подобных».
Джозефу это напомнило историю о близком контакте с аллигатором в зоопарке: он и доисторическая рептилия смотрели друг на друга через намытое небытие стекла — человек и зверь примирились друг с другом? Как бы не так: аллигатор медленно раскрыл пасть шириной во весь небосвод (тут Джозеф пытается изобразить это с помощью рук) и, не прерывая зрительный контакт, резко сомкнул челюсти (руки Джозефа смыкаются с хлопком, слегка пугая меня). Макэлрой произносит с оттенком неизбежности, рока в голосе: «Я точно знаю, аллигатор думал только об одном: если бы он мог, то сомкнул бы челюсти вокруг моей головы».
Не сомневаюсь. С точки зрения эволюции аллигаторы за прошедшие миллионы лет почти не изменились. Они буквально динозавры, топчущие нашу планету; каждый из них — максимально эффективная машина для убийства, какую природа только смогла создать.
Джозефу, по его словам, куда интереснее чужие истории, чем его собственная или разговоры о его книгах.
Я считаю это признаком истинного писателя. Как однажды сказал Делилло про известность и ее непостоянство: «Мне всегда больше нравилось находиться в углу и наблюдать». Интерес Джозефа приводит нас к еще одному факту: когда-то, после окончания колледжа в 2015-м, я преподавал в Болгарии английский как второй иностранный. Он спрашивает, почему я поехал именно туда. Я рассказываю, как отец оставил нас и его не было в моей жизни в период с 12 до 18 лет — целую вечность для подростка. Он переехал из Греции в Болгарию за то время, пока я заканчивал учиться, и предложил мне пожить с ним и тогда еще его девушкой (а ныне уже бывшей женой), в период моего устройства на свою первую постоянную работу. Поначалу отец подвозил меня в языковую школу на мотоцикле, но в течение месяца вернулся к не-отцовскому образу жизни. Видите ли, его девушка не могла иметь детей (но хотела), и ей казалось, будто мы с братом вторгаемся в ее пространство и являемся ходячим напоминанием о ее дефективности. Из-за чего она никогда не садилась за обеденный стол со мной и отцом, даже в день моего прибытия в страну, завтракая, обедая и ужиная у себя в кабинете, где, скорее всего, пялилась в криво накарябанные шпаргалки для предстоящих тестов в мединституте (мой отец дал взятки всему преподавательскому составу, чтобы ей позволили пропустить пару лет обучения, тем самым ускорив выдачу диплома экспресс-выпуска, хотя достойная восхищения непоколебимость одного из профессоров не только положила конец должностным преступлениям, но и привела к началу судебного процесса, который длился дольше, чем полный курс обучения). Вскоре после того начались разговоры о моем отъезде, пусть я и не спускался с мансарды, а мой разум был заживо погребен составлением учебного плана, проверкой сочинений и прочей конторской уничижительной дребеденью, и все это параллельно с попытками выполнять сверхамбициозный читательский план и продолжать работу над моим первым романом «Море вверху, солнце внизу». Менее чем через два месяца я обнаружил себя расквартированным в однокомнатной студии, где постельные клопы нанесли мне на поясницу любопытнейший узор из укусов, после чего я получал от отца редкие дежурные звонки, каждый не дольше пары минут, в его голосе легко читалось намерение скрыть сам факт разговора: он наверняка звонил из ванной или дальнего угла кабинета, лишь бы не дать своей девушке поводов подозревать его хоть в каком-то родительском поведении. Еще раньше (по его же словам) она заставила его поменять заставку на айфоне: теперь вместе фото с сыновьями на выпускном там стояло что-то другое, что-то профилактическое, метафорически абортивное. Стоит ли удивляться тому, что он приехал только когда захотел поплакаться на фоне семейной ссоры, а потом еще раз — забрать эппл вотч, которые заставил мою тогдашнюю девушку (теперь уже жену) привезти ему из США (но нашел хорошую отговорку, когда ей понадобилось ехать в аэропорт на обратный рейс)?
Джо сочувствует мне — на самом деле, как только я упомянул об этом, его взгляд смягчился, и я ощутил между нами связь на фоне исчезнувших отцов, после чего он спросил про мать. Я решил рассказать о ее недиагностированном пограничном расстройстве личности: как ее непредсказуемое избегание, за которым непременно следовал смутный материнский интерес, — прополоскать, отжать, запустить цикл заново — закончилось моим полным отчуждением в 2017-м: я написал ей электронное письмо, объясняя причины и выражая надежду на постановку диагноза и назначение лекарств (она спросила у моего брата его мнение об уже слишком очевидной болезни, однако тот боялся последствий и в итоге не ответил на это сообщение). Как и в случае с сыновьями, расставание с мужем она переживала не слишком-то успешно, сильно похудела, впала в депрессию. Одно время я жил с ужасной мыслью о том, что в любой момент могу обнаружить ее тело в спальне или другой комнате со слишком высокими потолками. Одновременно с тем она старалась сделать все возможное, лишь бы отравить любые хорошие воспоминание об отце, пока он всячески намекал — в это Рождество, нет, в следующее Рождество, посмотрим — на мессианское возвращение, которого никогда не случится. У скольких сирот на самом деле где-то есть живые родители?
Я считаю это признаком истинного писателя. Как однажды сказал Делилло про известность и ее непостоянство: «Мне всегда больше нравилось находиться в углу и наблюдать». Интерес Джозефа приводит нас к еще одному факту: когда-то, после окончания колледжа в 2015-м, я преподавал в Болгарии английский как второй иностранный. Он спрашивает, почему я поехал именно туда. Я рассказываю, как отец оставил нас и его не было в моей жизни в период с 12 до 18 лет — целую вечность для подростка. Он переехал из Греции в Болгарию за то время, пока я заканчивал учиться, и предложил мне пожить с ним и тогда еще его девушкой (а ныне уже бывшей женой), в период моего устройства на свою первую постоянную работу. Поначалу отец подвозил меня в языковую школу на мотоцикле, но в течение месяца вернулся к не-отцовскому образу жизни. Видите ли, его девушка не могла иметь детей (но хотела), и ей казалось, будто мы с братом вторгаемся в ее пространство и являемся ходячим напоминанием о ее дефективности. Из-за чего она никогда не садилась за обеденный стол со мной и отцом, даже в день моего прибытия в страну, завтракая, обедая и ужиная у себя в кабинете, где, скорее всего, пялилась в криво накарябанные шпаргалки для предстоящих тестов в мединституте (мой отец дал взятки всему преподавательскому составу, чтобы ей позволили пропустить пару лет обучения, тем самым ускорив выдачу диплома экспресс-выпуска, хотя достойная восхищения непоколебимость одного из профессоров не только положила конец должностным преступлениям, но и привела к началу судебного процесса, который длился дольше, чем полный курс обучения). Вскоре после того начались разговоры о моем отъезде, пусть я и не спускался с мансарды, а мой разум был заживо погребен составлением учебного плана, проверкой сочинений и прочей конторской уничижительной дребеденью, и все это параллельно с попытками выполнять сверхамбициозный читательский план и продолжать работу над моим первым романом «Море вверху, солнце внизу». Менее чем через два месяца я обнаружил себя расквартированным в однокомнатной студии, где постельные клопы нанесли мне на поясницу любопытнейший узор из укусов, после чего я получал от отца редкие дежурные звонки, каждый не дольше пары минут, в его голосе легко читалось намерение скрыть сам факт разговора: он наверняка звонил из ванной или дальнего угла кабинета, лишь бы не дать своей девушке поводов подозревать его хоть в каком-то родительском поведении. Еще раньше (по его же словам) она заставила его поменять заставку на айфоне: теперь вместе фото с сыновьями на выпускном там стояло что-то другое, что-то профилактическое, метафорически абортивное. Стоит ли удивляться тому, что он приехал только когда захотел поплакаться на фоне семейной ссоры, а потом еще раз — забрать эппл вотч, которые заставил мою тогдашнюю девушку (теперь уже жену) привезти ему из США (но нашел хорошую отговорку, когда ей понадобилось ехать в аэропорт на обратный рейс)?
Джо сочувствует мне — на самом деле, как только я упомянул об этом, его взгляд смягчился, и я ощутил между нами связь на фоне исчезнувших отцов, после чего он спросил про мать. Я решил рассказать о ее недиагностированном пограничном расстройстве личности: как ее непредсказуемое избегание, за которым непременно следовал смутный материнский интерес, — прополоскать, отжать, запустить цикл заново — закончилось моим полным отчуждением в 2017-м: я написал ей электронное письмо, объясняя причины и выражая надежду на постановку диагноза и назначение лекарств (она спросила у моего брата его мнение об уже слишком очевидной болезни, однако тот боялся последствий и в итоге не ответил на это сообщение). Как и в случае с сыновьями, расставание с мужем она переживала не слишком-то успешно, сильно похудела, впала в депрессию. Одно время я жил с ужасной мыслью о том, что в любой момент могу обнаружить ее тело в спальне или другой комнате со слишком высокими потолками. Одновременно с тем она старалась сделать все возможное, лишь бы отравить любые хорошие воспоминание об отце, пока он всячески намекал — в это Рождество, нет, в следующее Рождество, посмотрим — на мессианское возвращение, которого никогда не случится. У скольких сирот на самом деле где-то есть живые родители?
Последних двух абзацев едва ли достаточно для перечисления, не говоря уже про описание, бессчетных случаев, серьезных и не слишком, когда мое сердце было разбито. С годами моя жена залечила раны и разгладила шрамы.
Джо уверенным, но заботливым тоном говорит, что произошедшее там, в Болгарии, несомненно ужасно, но я вынес из ситуации куда больше, чем мой отец или его девушка смогли бы: творческий материал на всю оставшуюся жизнь. То же самое и с моим детством.
Один из тех редких моментов, когда я чувствовал себя понятым до самой глубины души, ведь именно эти события и обстоятельства косвенно и напрямую повлияли и на первый мой роман, и на недавно дописанный второй, «Морфологическое эхо» — в 2022-м я все еще находился в гуще происходящих в нем событий.
Рассказываю ему про тематическую и синтаксическую — систематическую в целом — мультивселенную моего второго романа, про структуру и концепцию, до которых марвеловским безделицам далеко. Уже спустя приличное время после начала написания романа я задумался о том, что история, на которой он строится, возникла частично из-за спорных сведений о моем происхождении. В ту первую эпоху отцовского отсутствия, матушка вливала мне в уши следующую полную желчи басню: пока я разворачивал свое существование внутри утробы, отец хотел, чтобы она сделала аборт, и дошел даже до попытки подкупить ее щенком кокапу в обмен на стирание меня с лица земли.
Впервые за целую вечность я увидел своего отца после школьного выпускного, когда выбрался за границу, также впервые, и поехал к нему, знакомому незнакомцу, в Грецию. В какой-то момент я затронул тему этого предсмертного опыта — он все полностью отрицал.
— Я верю ей, — подчеркивает Джо. — Я ей верю.
Хотел бы я быть так уверен, но оба мои родителя настолько беспросветно психически больны в разных, но отчасти пересекающихся смыслах, что само понятие Истины становится очередным невротическим измерением, которое можно либо игнорировать, либо рассматривать наряду с остальными. В «Морфологическом эхо» я анализирую суперпозицию щенка Шредингера и многое другое.
Несмотря на то, что я нетерпеливо выдаю вопрос за вопросом, Джо не торопится с комментариями, с пересечением какой-то личной границы, как будто границы уже не стали едва различимыми, полупрозрачными, но в конце концов произносит: «Твой отец должен тобой гордиться».
Признаю, отец проявлял гордость, но без ощутимой эмоциональной привязки — все равно что пустые слова или гордость по доверенности. Его дети — не просто дети, но продолжение его самого, существующее с его же позволения. Через пару лет или около того, где-то между выходом фильма «Остин Пауэрс: Голдмембер» и походом моего отца за греческими сигаретами, он ласково звал меня «Мини-Мы». И неоднократно отпускал мрачные шуточки в стиле Ветхого Завета типа «Я тебя породил, я тебя и убью».
Серая хмарь распадается на части, и разделяющие облака лучи солнца разрезают и рассекают наше пространство прямо у стола.
Мы сходимся на том, что «Тайный агент» Конрада куда лучше «Сердца тьмы», поскольку сталкивает читателя с самим собой, с двойником, а что есть отец, если не ближайшее к проявлению двойника?
Один из тех редких моментов, когда я чувствовал себя понятым до самой глубины души, ведь именно эти события и обстоятельства косвенно и напрямую повлияли и на первый мой роман, и на недавно дописанный второй, «Морфологическое эхо» — в 2022-м я все еще находился в гуще происходящих в нем событий.
Рассказываю ему про тематическую и синтаксическую — систематическую в целом — мультивселенную моего второго романа, про структуру и концепцию, до которых марвеловским безделицам далеко. Уже спустя приличное время после начала написания романа я задумался о том, что история, на которой он строится, возникла частично из-за спорных сведений о моем происхождении. В ту первую эпоху отцовского отсутствия, матушка вливала мне в уши следующую полную желчи басню: пока я разворачивал свое существование внутри утробы, отец хотел, чтобы она сделала аборт, и дошел даже до попытки подкупить ее щенком кокапу в обмен на стирание меня с лица земли.
Впервые за целую вечность я увидел своего отца после школьного выпускного, когда выбрался за границу, также впервые, и поехал к нему, знакомому незнакомцу, в Грецию. В какой-то момент я затронул тему этого предсмертного опыта — он все полностью отрицал.
— Я верю ей, — подчеркивает Джо. — Я ей верю.
Хотел бы я быть так уверен, но оба мои родителя настолько беспросветно психически больны в разных, но отчасти пересекающихся смыслах, что само понятие Истины становится очередным невротическим измерением, которое можно либо игнорировать, либо рассматривать наряду с остальными. В «Морфологическом эхо» я анализирую суперпозицию щенка Шредингера и многое другое.
Несмотря на то, что я нетерпеливо выдаю вопрос за вопросом, Джо не торопится с комментариями, с пересечением какой-то личной границы, как будто границы уже не стали едва различимыми, полупрозрачными, но в конце концов произносит: «Твой отец должен тобой гордиться».
Признаю, отец проявлял гордость, но без ощутимой эмоциональной привязки — все равно что пустые слова или гордость по доверенности. Его дети — не просто дети, но продолжение его самого, существующее с его же позволения. Через пару лет или около того, где-то между выходом фильма «Остин Пауэрс: Голдмембер» и походом моего отца за греческими сигаретами, он ласково звал меня «Мини-Мы». И неоднократно отпускал мрачные шуточки в стиле Ветхого Завета типа «Я тебя породил, я тебя и убью».
Серая хмарь распадается на части, и разделяющие облака лучи солнца разрезают и рассекают наше пространство прямо у стола.
Мы сходимся на том, что «Тайный агент» Конрада куда лучше «Сердца тьмы», поскольку сталкивает читателя с самим собой, с двойником, а что есть отец, если не ближайшее к проявлению двойника?
Нам, писателям, больно, когда никто из членов семьи не интересуется нашим трудом. Джо и я согласны с тем, что слишком большого значения придавать этому не стоит, но у него случались размолвки с близкими, которые поступили (или не- ) именно так. Все исходит из желания поделиться огромной частью своей жизни, писательской жизни. Отсюда Джо приходит к следующему умозаключению: иногда вдруг обнаруживаешь, что лучшие части твоей жизни, самые важные ее части, лежат далеко за пределами писательской сферы.
Я киваю. Несмотря на глубокую связь между ними, писательский труд — не вся жизнь, хотя в какой-то момент и может так показаться. «Жизнь в кресле», как называл это Гэсс в своем magnum opus, может довести до копания ямы для самого себя, до копания ямы внутрь себя — все больше и больше пустоты — пока не получится рукопись, копирующая пустую телесную оболочку. Если не во имя чего-то другого, то писатель должен жить, чтобы накапливать материал, насколько бы плодовито ни было его воображение. Они в симбиозе друг с другом — опыт и воображение.
Узнав, что у Джо рано умер отец, заговариваю о его романе «Письмо, оставленное мне», как и предполагает название, о посмертном письме, оставленном отцом сыну-старшекласснику. «Я бы удивился, если бы это исходило не из личного опыта», — замечаю я.
Он говорит, люди постоянно спрашивают, было ли вообще письмо. Оно появилось из личного опыта, но Джо предпочитает не говорить о том, действительно оно существовало или нет, ибо это сведет весь труд к вопросу о том, что в нем художественный вымысел, а что — документальная реальность или мемуар.
В интервью с Томом Леклером в 1978-м Джо говорит: «[Мой отец] сильно бы усомнился или был бы недоволен, если бы семнадцати-восемнадцатилетний я сказал ему, что собираюсь стать писателем. Но я всегда знал: я живу в тени своего отца. В первые пару лет после его смерти — мне тогда было пятнадцать — друзья отца просто достали своими речами в стиле: “Твой отец был одним из лучших людей, что я знал. Если вырастешь таким же, этого будет достаточно для кого угодно”. Думаю, я в каком-то смысле хотел добиться расположения отца или быть достойным»… Находился ли он в тени своего отца или был осенен его светом?
В любом случае Джо считал, что отца бы заинтересовали его романы. Когда он это говорит, в его голосе и лице проскальзывает какая-то детская надежда, и мне тоже хочется верить, пусть и исключительно ради него, хотя правдой могло оказаться и совершенно противоположное. Его отец, выпускник химического факультета Гарварда, был большим эрудитом и пытливым ученым, но по специальности работать не стал. Учитывая, что творчество Джо пропитано наукой и математикой, нетрудно было бы представить интерес его отца и даже гордость. Самое близкое к научной фантастике, написанное Джо — «Плюс» (1977), роман о человеческом мозге, осознавшем себя в капсуле на орбите Земли; в библиографии указано трио для легкого чтения: «Биоэнергетика» Альберта Ленинджера, «Нервная система человека» Чарльза Ноубэка с иллюстрациями Роберта Демареста, «Принципы развития» Пола Вайсса.
Я киваю. Несмотря на глубокую связь между ними, писательский труд — не вся жизнь, хотя в какой-то момент и может так показаться. «Жизнь в кресле», как называл это Гэсс в своем magnum opus, может довести до копания ямы для самого себя, до копания ямы внутрь себя — все больше и больше пустоты — пока не получится рукопись, копирующая пустую телесную оболочку. Если не во имя чего-то другого, то писатель должен жить, чтобы накапливать материал, насколько бы плодовито ни было его воображение. Они в симбиозе друг с другом — опыт и воображение.
Узнав, что у Джо рано умер отец, заговариваю о его романе «Письмо, оставленное мне», как и предполагает название, о посмертном письме, оставленном отцом сыну-старшекласснику. «Я бы удивился, если бы это исходило не из личного опыта», — замечаю я.
Он говорит, люди постоянно спрашивают, было ли вообще письмо. Оно появилось из личного опыта, но Джо предпочитает не говорить о том, действительно оно существовало или нет, ибо это сведет весь труд к вопросу о том, что в нем художественный вымысел, а что — документальная реальность или мемуар.
В интервью с Томом Леклером в 1978-м Джо говорит: «[Мой отец] сильно бы усомнился или был бы недоволен, если бы семнадцати-восемнадцатилетний я сказал ему, что собираюсь стать писателем. Но я всегда знал: я живу в тени своего отца. В первые пару лет после его смерти — мне тогда было пятнадцать — друзья отца просто достали своими речами в стиле: “Твой отец был одним из лучших людей, что я знал. Если вырастешь таким же, этого будет достаточно для кого угодно”. Думаю, я в каком-то смысле хотел добиться расположения отца или быть достойным»… Находился ли он в тени своего отца или был осенен его светом?
В любом случае Джо считал, что отца бы заинтересовали его романы. Когда он это говорит, в его голосе и лице проскальзывает какая-то детская надежда, и мне тоже хочется верить, пусть и исключительно ради него, хотя правдой могло оказаться и совершенно противоположное. Его отец, выпускник химического факультета Гарварда, был большим эрудитом и пытливым ученым, но по специальности работать не стал. Учитывая, что творчество Джо пропитано наукой и математикой, нетрудно было бы представить интерес его отца и даже гордость. Самое близкое к научной фантастике, написанное Джо — «Плюс» (1977), роман о человеческом мозге, осознавшем себя в капсуле на орбите Земли; в библиографии указано трио для легкого чтения: «Биоэнергетика» Альберта Ленинджера, «Нервная система человека» Чарльза Ноубэка с иллюстрациями Роберта Демареста, «Принципы развития» Пола Вайсса.
Конечно, мертвый родитель и просто отсутствующий — далеко не одно и то же. В некоторых случаях или смыслах это может совпадать, конечно: когда хочется, чтобы они присутствовали при знаменательных событиях и были рядом в тяжелые времена. Однако у мертвого родителя есть одно преимущество: его можно представлять себе каким угодно. В моем случае живые родители — пара из сертифицированного нарцисса (по отцовской линии) и мстительного, когда не в околобессознательном оцепенении, «пограничника» (по материнской). Никаких иллюзий.
В дополнение к «Письму, оставленному мне»: когда дело доходит до родителей, умерших и покинувших нас (необязательно в таком порядке), вспоминается ушедшая мать из второй части «Женщин и мужчин», вероятно, утонувшая («…ветер и погода, как мы уже говорили, знакомое тайное прикрытие для высших сил, но также прикрытие сонного духа для матери, что ушла туда, где соленые волны набегали, щекоча, на песчаный берег…»), как и в одном из вырезанных фрагментов романа, опубликованном позже под названием «Приготовления к поиску», в котором герой по имени Енос хочет нанять частного детектива, дабы выследить своего отца. Вероятно, есть причина, почему родитель растворяется в воздухе.
В дополнение к «Письму, оставленному мне»: когда дело доходит до родителей, умерших и покинувших нас (необязательно в таком порядке), вспоминается ушедшая мать из второй части «Женщин и мужчин», вероятно, утонувшая («…ветер и погода, как мы уже говорили, знакомое тайное прикрытие для высших сил, но также прикрытие сонного духа для матери, что ушла туда, где соленые волны набегали, щекоча, на песчаный берег…»), как и в одном из вырезанных фрагментов романа, опубликованном позже под названием «Приготовления к поиску», в котором герой по имени Енос хочет нанять частного детектива, дабы выследить своего отца. Вероятно, есть причина, почему родитель растворяется в воздухе.
В руки моего друга-библиофила попал толстый пакет с письмами и открытками Джозефа Макэлроя: каждое написанное им слово выведено с волнистой беспечностью или значимостью личной подписи. Одно из писем посвящено кончине его матери:
Мама умерла вчера утром. Она пережила как минимум еще один инсульт и два месяца лежала в больнице, борясь за жизнь. Я приходил к ней почти каждый день, она никак не отвечала, но знала, что я рядом. Виделся с ней в пятницу вечером и сказал, что все в порядке: и у меня, и у Ханны — и тогда она подала единственный знак, который могла — тревожный, тяжелый, поистине глубинный звук, исходящий из измученной груди. Ее целый месяц кормили через трубочку, и она ждала этого избавления. Я так любил ее, хоть и был трудным сыном, а она — иногда не самой приятной матерью. Надеюсь, когда она прибудет на следующую станцию, будет звучать рапсодия Шумана или сюита Респиги, или что-то вроде. Выглядит так, будто я верю в реинкарнацию? Только в рамках книги.
Позже я поднимаю тему надвигающейся тяжести неизбежной смерти родителей и непредсказуемости моих собственных действий, если бы подобная ситуация возникла. Но теперь, работая над этим эссе в 2025-м, одно я знаю наверняка: мой отец умрет в одиночестве, если только рядом не будет какой-нибудь очередной трофейной девушки. Я сделал последний отчаянный звонок перед трехмесячной исследовательской поездкой в Грецию, и в ответ не получил ничего, кроме агрессии: он безупречен, а виноваты все вокруг, столько газлайтинга, что хватило бы на подсветку туманности Тарантул. Жестокий и озлобленный человек, самовлюбленный, «Я лучший из всех, кого я знаю. Жаль, что тебе не удалось узнать настоящего меня». Но его суть и так не скроешь. Между игнорированием собственных детей и изменами на постоянной основе хорошо вклинивается фраза на греческом — μαύρη ψυχή — «черная душа».
Если спустя десять лет после того инцидента в Болгарии он никак не изменился и даже прогнил еще больше, то о матушке новости не лучше: после того, как мой тихий, бормочущий себе под нос брат едва обмолвился о прививках в телефонном разговоре, она тут же произнесла: «Надо было сделать аборт». Эта женщина — обладатель пожизненной подписки на все конспирологические теории, «трамполиз», как я люблю их называть. Если бы звонил я, а не брат, то ответил бы: «А мне нужно было вывернуть тебя наизнанку, когда я вылезал наружу». Но лучше не прерывать радиомолчания последних восьми лет, чем скатиться до такой желчности. Что касается смерти моей матери, то мрачный приговор еще не вынесен. Она и вправду жертва психического заболевания, но это не значит, что я должен мученически страдать на кресте ее жертвенности, особенно если боль будет изливаться и влиять на мою любящую, чуткую жену.
Если спустя десять лет после того инцидента в Болгарии он никак не изменился и даже прогнил еще больше, то о матушке новости не лучше: после того, как мой тихий, бормочущий себе под нос брат едва обмолвился о прививках в телефонном разговоре, она тут же произнесла: «Надо было сделать аборт». Эта женщина — обладатель пожизненной подписки на все конспирологические теории, «трамполиз», как я люблю их называть. Если бы звонил я, а не брат, то ответил бы: «А мне нужно было вывернуть тебя наизнанку, когда я вылезал наружу». Но лучше не прерывать радиомолчания последних восьми лет, чем скатиться до такой желчности. Что касается смерти моей матери, то мрачный приговор еще не вынесен. Она и вправду жертва психического заболевания, но это не значит, что я должен мученически страдать на кресте ее жертвенности, особенно если боль будет изливаться и влиять на мою любящую, чуткую жену.
Нам приносят счет, Джо настаивает на том, чтобы меня угостить. Сначала пытаюсь возразить, но благодарно уступаю, памятуя, как один родственник из Нью-Джерси, периодически появлявшийся в моей подростковой жизни и также стремительно из нее исчезавший, чуть не пристукнул меня за упрямое желание всегда платить за свою еду. Джо не держится за свою гордость — он просто объяснил мне, что я приглашен на этот ланч. Мы встаем из-за стола, и он предлагает пройтись вдоль Гудзона. На Джо коричневый кожаный ремень, вместо пряжки металлический круг с лепестками, а из круга торчит изрядно потрепанный и оттого посветлевший кусок ремня, сантиметров семи. Аксессуар с относительным успехом поддерживает выцветшие синие джинсы. На ногах красные кроссовки: не клоунские боты, а обувка уровня Hermès, чтобы спокойно передвигаться по «Большому яблоку». Лавируя по тротуарам, я ощущаю острую необходимость защитить Джо, зная, что любое падение в таком возрасте может стать фатальным, и заранее готовлюсь подхватить его, когда приходится шагнуть на бордюр или с него, или выступить в роли щита, когда мимо проносятся неумелые байкеры и бешеные дети, но ему моя защита не нужна. Несмотря на прививки и две ревакцинации, Джо подхватил COVID-19 в первую неделю мая 2022-го, однако это почти никак не повлияло на его здоровье, хотя он и принадлежит к группе повышенного риска. Даже если сравнивать болезнь Джо с инфицированным москитом, которого прихлопнули его старательные лейкоциты, это все равно не придало бы Герру Дрампфу и его эвфемистической, исчезающей за лето простуде достоверности. Полагаю, гиперболическое эссе Майка Хеппнера в юбилейном сборнике Golden Handcuffs Review, посвященном Макэлрою, претендует на правду: «Джозеф Макэлрой около шести метров ростом и может давить бицепсами бронелимузины. Он доживет до четырехсот лет, а потом проживет еще лет тридцать пять». И, как будто этого было недостаточно, через шесть недель после операции на сонной артерии в 2021-м он занимался йогой, становясь в майюрасану, более известную как поза павлина. Начиная с литературы и заканчивая образом жизни, Джо превосходит нас во всем. Павлина зачастую считают хвастливым существом, но индусы почитают эту прекрасную птицу как символ любви, терпения и, кроме прочего, бессмертия.
Перед прогулкой вдоль Гудзона мы возвращаемся в квартиру Джо, чтобы он взял синюю кепку, хотя на улице больше ветрено, чем солнечно, и порывы периодически подталкивают нас вперед. Вижу статую Свободы, нагружающую горизонт: символ, остающийся на том же месте, но потерявший былой смысл, если вовсе не обретший противоположный, предупреждение цвета медной патины, гигантский надгробный памятник, однако в тот момент я думаю о мифологических фрагментах «Женщин и мужчин», на которые оказала влияние культура Навахо, и об истории Принцессы Хуура, испарившейся вместе с подарком союзников. По пути к реке Джо спрашивает о моей жене Николь. «Чудесное имя», — отмечает он, затем добавляя: «в “Ночь нежна” тоже есть Николь».
Роман Фицджеральда произвел на Джо неизгладимое впечатление, оставшись с ним на долгие годы как интуитивный опыт в разных аспектах, один из которых заключается в повествовании о жизни за границей, а Макэлрой сам когда-то жил в Париже. Может, это и не самая лучшая книга Фицджеральда (слегка непричесанная, не такая вылизанная, как «Великий Гэтсби», и точно не мистическая), но именно к «Ночь нежна» он обращается регулярно.
— Николь? — повторяю я. — Думаю, да. Точно помню Дика Дайвера. Но явно не
по тем же причинам. Ее фамилия Мельхионда, но люди зачастую понятия не имеют, как это произносить, ляпают что попало, не гнушаясь даже упоминанием митохондрии.
— Митохондрия? Это из «Плюса».
— Именно, — выпаливаю я. — Один мой друг, недавно взявшийся за «Плюс», сказал, будто он читается как эпическая поэма.
— Точно, — уклончиво отвечает Джо.
— Вам так не кажется?
— Книга — барьер между читателем и писателем.
Ему не нравятся вопросы, заставляющие объяснять, о чем вообще его книги. Но он куда охотнее ответит на такие, чем на еще более идиотские из разряда: «Откуда вы берете идеи?» Как если бы романы рождались из одного инертного источника.
В основном такие вопросы он и получит, если примет предложение дать свой контакт в Zoom сотням учеников школы Poly Prep, которая изначально была заведением исключительно для мальчиков. Ему кажется, бывшие одноклассники погрязли в ностальгии. И он этих чувств не разделяет. Хотя и признает, что у него есть несколько особенно пронзительных воспоминаний, практически хрустальных.
— Касаемо предложения, — спрашивает он, — как вообще вместить 85 лет писательства в 25 минут или даже меньше?
85 — не округленное число. Джо утверждает, будто начал писать в семь лет. И подозревает, что многим детям вовсе не интересны его лекции, не говоря уже про произведения. «Да никто и не заставляет читать их», — уверяет он. Но если бы они что-то прочитали, можно было бы дать более развернутый комментарий о природе писательского мастерства исходя из личного опыта. Так у него появилась идея послать преподавателям выдержки из романов, чтобы те поделились ими с учениками. Опять же, это не принудительное чтение. В любом случае Джо еще до конца не определился. Очередное прерывание, содержательное или не очень.
Очное мероприятие состоялось 27 октября 2022, и ему дали чуть больше времени на то, чтобы кратко изложить всю мудрость целой жизни, посвященной творчеству. Несмотря на трансляцию в Zoom для любопытных онлайн-посетителей, вживую лекцию слушала лишь небольшая группа избранных учеников. Невзирая на это, речь Джо выверена, выразительна и достаточно самобытна, чтобы потенциально укрепить кого-то, пусть даже одного, в намерении стать писателем. Вот его совет для немногочисленных и рассеянных по аудитории участников:
Роман Фицджеральда произвел на Джо неизгладимое впечатление, оставшись с ним на долгие годы как интуитивный опыт в разных аспектах, один из которых заключается в повествовании о жизни за границей, а Макэлрой сам когда-то жил в Париже. Может, это и не самая лучшая книга Фицджеральда (слегка непричесанная, не такая вылизанная, как «Великий Гэтсби», и точно не мистическая), но именно к «Ночь нежна» он обращается регулярно.
— Николь? — повторяю я. — Думаю, да. Точно помню Дика Дайвера. Но явно не
по тем же причинам. Ее фамилия Мельхионда, но люди зачастую понятия не имеют, как это произносить, ляпают что попало, не гнушаясь даже упоминанием митохондрии.
— Митохондрия? Это из «Плюса».
— Именно, — выпаливаю я. — Один мой друг, недавно взявшийся за «Плюс», сказал, будто он читается как эпическая поэма.
— Точно, — уклончиво отвечает Джо.
— Вам так не кажется?
— Книга — барьер между читателем и писателем.
Ему не нравятся вопросы, заставляющие объяснять, о чем вообще его книги. Но он куда охотнее ответит на такие, чем на еще более идиотские из разряда: «Откуда вы берете идеи?» Как если бы романы рождались из одного инертного источника.
В основном такие вопросы он и получит, если примет предложение дать свой контакт в Zoom сотням учеников школы Poly Prep, которая изначально была заведением исключительно для мальчиков. Ему кажется, бывшие одноклассники погрязли в ностальгии. И он этих чувств не разделяет. Хотя и признает, что у него есть несколько особенно пронзительных воспоминаний, практически хрустальных.
— Касаемо предложения, — спрашивает он, — как вообще вместить 85 лет писательства в 25 минут или даже меньше?
85 — не округленное число. Джо утверждает, будто начал писать в семь лет. И подозревает, что многим детям вовсе не интересны его лекции, не говоря уже про произведения. «Да никто и не заставляет читать их», — уверяет он. Но если бы они что-то прочитали, можно было бы дать более развернутый комментарий о природе писательского мастерства исходя из личного опыта. Так у него появилась идея послать преподавателям выдержки из романов, чтобы те поделились ими с учениками. Опять же, это не принудительное чтение. В любом случае Джо еще до конца не определился. Очередное прерывание, содержательное или не очень.
Очное мероприятие состоялось 27 октября 2022, и ему дали чуть больше времени на то, чтобы кратко изложить всю мудрость целой жизни, посвященной творчеству. Несмотря на трансляцию в Zoom для любопытных онлайн-посетителей, вживую лекцию слушала лишь небольшая группа избранных учеников. Невзирая на это, речь Джо выверена, выразительна и достаточно самобытна, чтобы потенциально укрепить кого-то, пусть даже одного, в намерении стать писателем. Вот его совет для немногочисленных и рассеянных по аудитории участников:
Это было моей темой с самого начала: жизнь, о которой мы пытаемся писать, материал о которой собираем, всегда пребывает в форме на грани распада. [...] Писать нужно о том, что вы знаете, но, знаете, нужно писать и о том, чему вы учитесь. В действительности вы всегда пишете о том, чему учитесь, что весьма интересно, ведь это означает, что то, над чем вы работаете ради создания произведения, само по себе еще не закончено. Оно в движении. В некотором смысле неподконтрольно, и, возможно, именно в принятии отсутствия контроля или принятии потенциального хаоса и заключается честность по поводу ума, по поводу сознания.
Я возвращаюсь к мысли о Фицджеральде и его «Гэтсби», первой программной литературе, на которую я отозвался с ощутимой глубиной, ибо даже будучи старшеклассником не мог не ощутить переполняющую сердце ностальгию главного героя, трагичную атмосферу происходящего. Памятуя о первом импульсе, называю некоторых авторов, которых начал читать, когда взялся за чтение всерьез: список включал Мартина Эмиса, Иэна Макьюэна и Салмана Рушди. Последний из них по сей день занимает видное место в моем литературном пантеоне.
Джо говорит, «Дети полуночи» — истинный шедевр, и я очень рад это слышать.
Помимо всего прочего — а всего прочего предостаточно — вполне могу представить, как Джо кивает после прочтения философского фрагмента из этой книги всех книг, Букера всех Букеров:
Джо говорит, «Дети полуночи» — истинный шедевр, и я очень рад это слышать.
Помимо всего прочего — а всего прочего предостаточно — вполне могу представить, как Джо кивает после прочтения философского фрагмента из этой книги всех книг, Букера всех Букеров:
Но кто я – что я? Ответ: я – сумма, итог всего того, что прошло передо мной; всего, чем я был, что я видел и делал; всего, что делали со мной. Я – любой человек, любая вещь, чьё присутствие в мире как-то затронуто моим существованием; чьё бытие затрагивало меня. Я – всё то, что произойдёт, когда меня не будет, и что не произошло бы, если бы меня не было вообще. И я в этом смысле не представляю собой какой-то особый феномен: любое «я», любой из нас – уже более-шестисот-миллионов – заключает в себе подобное множество. [...] Чтобы понять меня, вы должны поглотить весь мир.
(пер. А. Миролюбовой)
(пер. А. Миролюбовой)
Чистая любовь к повествованию, говорю вам, пламенная виртуозность… как в произведениях Джона Барта. Иногда Джо добродушно осаживает меня, как когда я признаю, что читал только «Заблудившись в комнате смеха». И подчеркивает: «Но это его лучшая книга».
«Заблудившись в комнате смеха», ввиду явной эллинофилии сборника, стал вдохновением для задуманного мной третьего романа. Прочно засевшая у меня в голове фраза — о деревянном коне «испражняющем греческие массы».
Джо смеется, а я продолжаю рассказывать, как одному этому сборнику удалось убедить меня в том, что романы Барта придутся мне по вкусу, так что я собирал подписанные автором копии, если мог таковые найти, и впихивал их на и без того утрамбованные книжные полки. Из уже собранного: «Козлоюноша Джайлс», «Торговец дурманом», «Письма» и «Последнее плаванье Имярек моряка».
Так случилось, что и у меня, и у Джо на подходе наши греческие романы. Одно из основных отличий состоит в эпохе, где развивается действие: у Джо это Древняя Греция, а у меня — современная, хотя я бы хотел на протяжении всей книги находить разные способы размывания границы между античностью и нашим временем. Я представляю себе эту книгу как греческие «Дети полуночи»: хочу сделать для Греции то же самое, что Рушди сделал для Индии, или нечто наподобие греческого «Улисса», замыкая круг одиссеи. Хочу погрузиться в историю моего происхождения и планирую списать персонажа со своего покойного дедушки — единственного художника в семье, человека, создававшего настоящие произведения искусства из выкрашенных и разрезанных коконов шелкопрядов, не считая всего остального.
Про свое греческое начинание Джо рассказывал в нашем интервью в 2021-м:
«Заблудившись в комнате смеха», ввиду явной эллинофилии сборника, стал вдохновением для задуманного мной третьего романа. Прочно засевшая у меня в голове фраза — о деревянном коне «испражняющем греческие массы».
Джо смеется, а я продолжаю рассказывать, как одному этому сборнику удалось убедить меня в том, что романы Барта придутся мне по вкусу, так что я собирал подписанные автором копии, если мог таковые найти, и впихивал их на и без того утрамбованные книжные полки. Из уже собранного: «Козлоюноша Джайлс», «Торговец дурманом», «Письма» и «Последнее плаванье Имярек моряка».
Так случилось, что и у меня, и у Джо на подходе наши греческие романы. Одно из основных отличий состоит в эпохе, где развивается действие: у Джо это Древняя Греция, а у меня — современная, хотя я бы хотел на протяжении всей книги находить разные способы размывания границы между античностью и нашим временем. Я представляю себе эту книгу как греческие «Дети полуночи»: хочу сделать для Греции то же самое, что Рушди сделал для Индии, или нечто наподобие греческого «Улисса», замыкая круг одиссеи. Хочу погрузиться в историю моего происхождения и планирую списать персонажа со своего покойного дедушки — единственного художника в семье, человека, создававшего настоящие произведения искусства из выкрашенных и разрезанных коконов шелкопрядов, не считая всего остального.
Про свое греческое начинание Джо рассказывал в нашем интервью в 2021-м:
V в. до н.э. — именно тот период, которому я всецело предан, и придерживаюсь идеи, хотя никогда ранее о ней не писал: как солидная историческая проза обнаруживает небольшой, но значительный пробел или неизведанный темный потенциал, со всех сторон окруженный событиями, о которых мы имеем представление; благодаря чему, в этих еще не описанных обстоятельствах, и частично из них события возникают — в некотором смысле изобретенные. Но я бы не стал изобретать альтернативы к уже известному. Это и отличает мой греческий нарратив от прочих книг, что я могу назвать, хотя и создает связь с другими, странным образом попадающими в те же рамки. [...] Мне кажется, мой греческий роман может представлять интерес как рассказ об исцелении и средствах, о похождениях, которые сейчас назвали бы феминистскими, молодой женщины, ощутимо неординарной, — поразительная, беспорядочная глава даже в истории философии.
В школе Джо изучал латынь, но жалеет, что не было еще и древнегреческого. В последнее время он старается подучить язык, мечтая о том, как много всего можно почерпнуть из чтения философии и эпоса в оригинале. Такова и моя цель для греческого проекта. Говоря об античном мире, я вспоминаю «Вечера в древности» Нормана Мейлера. Семисотстраничный роман, действие которого происходит в Древнем Египте, занял у автора больше десяти лет. Я считал его одной из лучших книг Мейлера, амбициозной и временами околоборхесианской, атлантом, на чьих плечах я стоял, описывая собственный взгляд на Древний Египет в моем калейдоскопическом и хронологически многоплановом втором романе, зная, помимо прочих вещей, что древние египтяне верили, будто у каждого человека семь частей души, включая Ба — сущность в форме птицы. Джо было плевать на труды Мейлера, так что он издал звук, напоминающий оральный метеоризм, в знак неодобрения и показал большой палец вниз на манер римского императора, выносящего вердикт измученному гладиатору.
Несмотря на то, что солнце греет все сильней сквозь сито облаков, воздух у отсыпанного сланцем расширения Гудзона становится прохладнее, и мы направляемся на 25-й пирс парка Гудзон-Ривер, вразнобой мощеный плиткой, со скромным, но вполне комфортным зеленым островком, где люди занимаются приседаниями и другими подобными вещами.
Несмотря на то, что солнце греет все сильней сквозь сито облаков, воздух у отсыпанного сланцем расширения Гудзона становится прохладнее, и мы направляемся на 25-й пирс парка Гудзон-Ривер, вразнобой мощеный плиткой, со скромным, но вполне комфортным зеленым островком, где люди занимаются приседаниями и другими подобными вещами.
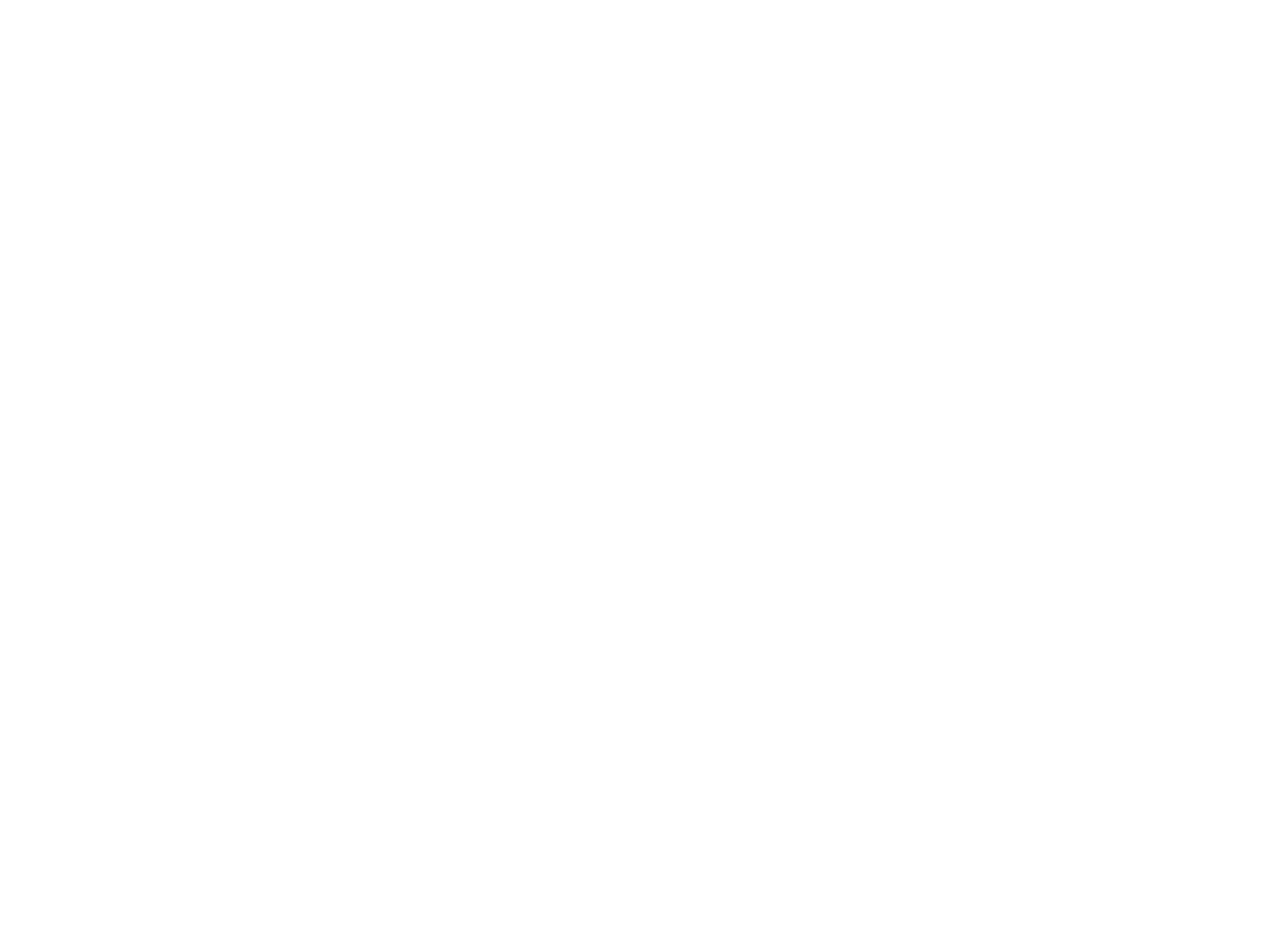
Полностью погруженный в атмосферу Древней Греции, Джо энное количество раз ссылается на Платона и прочих античных философов. В отношении отцов, к примеру, Платон сказал следующее: пусть лучше детей воспитывают не их биологические отцы, а общество в целом.
Я антинаталист фаталист, а Джо — отец двоих детей: у него есть сын и дочь. По его словам он в хороших отношениях с обоими, но случались и размолвки. Дочь Ханна, владелица книжного магазина «Magus Books» в Сиэтле, практикующая таро и астрологию, словно была проинформирована нью-эйдж феминисткой Грейс из «Женщин и мужчин», проводящей у себя в квартире нудистские Су[щнос]ть-Телесные мастер-классы: «Но то, что нашло на нее, когда она выпустила себя, отпущенная небом прямо в волны любви зеркальной комнаты, должно было быть куда больше значимости ее дня, который казался таким ясным в спазме и слюно-потоке-вот-и-я изливающейся любви, скормленной обратно космосу». Сын Джо, Бун, моложе сестры на несколько десятков лет, он рэп-энтузиаст, изучал музыкальные технологии и работал продюсером. Я спрашиваю Джо о его мнении по поводу рэпа, он отвечает, что ничего не имеет против, хотя тексты иногда и представляются проблемными. Полагаю, его ответ нужно рассматривать как великодушие заботливого отца.
Я антинаталист фаталист, а Джо — отец двоих детей: у него есть сын и дочь. По его словам он в хороших отношениях с обоими, но случались и размолвки. Дочь Ханна, владелица книжного магазина «Magus Books» в Сиэтле, практикующая таро и астрологию, словно была проинформирована нью-эйдж феминисткой Грейс из «Женщин и мужчин», проводящей у себя в квартире нудистские Су[щнос]ть-Телесные мастер-классы: «Но то, что нашло на нее, когда она выпустила себя, отпущенная небом прямо в волны любви зеркальной комнаты, должно было быть куда больше значимости ее дня, который казался таким ясным в спазме и слюно-потоке-вот-и-я изливающейся любви, скормленной обратно космосу». Сын Джо, Бун, моложе сестры на несколько десятков лет, он рэп-энтузиаст, изучал музыкальные технологии и работал продюсером. Я спрашиваю Джо о его мнении по поводу рэпа, он отвечает, что ничего не имеет против, хотя тексты иногда и представляются проблемными. Полагаю, его ответ нужно рассматривать как великодушие заботливого отца.
Впервые приехав к Джо в гости, я познакомился с Буном, и они буквально оценивали меня со всех сторон. Джо указал на мой бицепс, я напряг мышцы, и он обхватил мою руку пальцами.
— И осанка у тебя неплохая, — добавил Бун.
Черты Бун явно унаследовал от отца: выступающий лоб, выразительный взгляд, тонкий, длинный нос с вытянутым вниз кончиком и лицо, по форме напоминающее медиатор. В какой-то момент он перекрасился в блондина и на фотографиях тех лет выглядел как настоящий Слим Шейди. Джо упомянул, что Бун владеет джиу-джитсу и играет на фортепиано: два таланта, балансирующие друг друга.
Пока Джо собирался на выход, Бун поведал мне, что пару минут назад употребил нечто под названием «жидкое золото» и оно растворилось прямо на языке, а теперь он ощущает странное нервное возбуждение. Утверждал, что у него есть древняя булава.
— Неужели?
— Тяжеленное оружие.
Странная беседа продолжалась какое-то время, пока Бун не ушел на волю в город; в его жилах явно текла кровь, переполненная светом жидкого золота. Он кажется ничего таким чуваком, славным малым, я был бы не прочь зависнуть с ним в иных обстоятельствах, но я пришел как почитатель творчества его отца и учуял со стороны Буна едва уловимое подозрение: сын на страже покоя отца-долгожителя.
Когда мы выдвинулись на ланч, Джо сказал: «Рад, что вы двое познакомились».
— И осанка у тебя неплохая, — добавил Бун.
Черты Бун явно унаследовал от отца: выступающий лоб, выразительный взгляд, тонкий, длинный нос с вытянутым вниз кончиком и лицо, по форме напоминающее медиатор. В какой-то момент он перекрасился в блондина и на фотографиях тех лет выглядел как настоящий Слим Шейди. Джо упомянул, что Бун владеет джиу-джитсу и играет на фортепиано: два таланта, балансирующие друг друга.
Пока Джо собирался на выход, Бун поведал мне, что пару минут назад употребил нечто под названием «жидкое золото» и оно растворилось прямо на языке, а теперь он ощущает странное нервное возбуждение. Утверждал, что у него есть древняя булава.
— Неужели?
— Тяжеленное оружие.
Странная беседа продолжалась какое-то время, пока Бун не ушел на волю в город; в его жилах явно текла кровь, переполненная светом жидкого золота. Он кажется ничего таким чуваком, славным малым, я был бы не прочь зависнуть с ним в иных обстоятельствах, но я пришел как почитатель творчества его отца и учуял со стороны Буна едва уловимое подозрение: сын на страже покоя отца-долгожителя.
Когда мы выдвинулись на ланч, Джо сказал: «Рад, что вы двое познакомились».
В вопросах глобального понимания семьи Джо со мной согласен: семью следует выбирать самому, а не мириться с выбором крови. Пусть подобные сантименты и достойны вышивки на подушке, но их цена — генетическое освобождение.
Кстати о крови: рассказываю Джо о тесте ДНК, который сделал по большей части ради здоровья и из интереса относительно тревожных предрасположенностей к заболеванию раком и т.д. Он признает, что обладать подобного рода сведениями ему было бы страшно, но все же задает вопрос: «Зачем мне делать этот тест? Допустим, они предсказали бы, что случится со мной в 93, но, опять же, в чем смысл?»
Тест помог бы узнать о происхождении; спрашиваю Джо о его корнях. Он говорит, что все его предки из Англии и Уэльса, в отличие от моих: греков, швейцарцев и итальянцев.
В дальнем конце пирса Джо вытаскивает черные очки с зеленой окантовкой внутри оправы — куда более смелое заявление, чем мои паленые «рэй бэны». Весьма иронично, но ему не нравится скульптура «Душа воды» — гигантская голова, возвышающаяся на расстоянии.
Буквально голова белой женщины с собранными в пучок волосами и прижатым к губам пальцем, 24 метра в высоту. Скульптор, Жауме Пленса, объясняет послание своего творения так: «мы должны отбросить все слова… дабы услышать глубинную речь воды, обращенную к нам». Возможно, считает Джо, попытка головы заставить нас замолчать лишь мешает слушать голос воды. «С такого расстояния выглядит лучше», — говорит он. И когда улыбается, его щеки приподнимаются, лишь добавляя складок к гусиным оверсайз лапкам его морщин.
Около пятнадцати лет Джо писал книгу (или, лучше сказать, Книгу) о воде. И в последние годы она все время балансировала на грани публикации. Одной из причин задержки является вооруженный конфликт России с Украиной. «Мне нужно пересмотреть выводы», — говорит он, — «в соответствии с тем, как будут развиваться события».
Он с наслаждением погрузился в публицистику Гэсса, в особенности ему понравилось эссе по «Невидимым городам» Итало Кальвино, которое как раз пригодилось для водного проекта. Припоминаю: «Да, в книге Кальвино есть как минимум парочка водных городов, вроде Вальдрады, построенной на берегу озера, на поверхности которого отражается его структура и жители, или Армиллы “без стен, потолков и пола — нет ничего, что делало бы ее похожей на город, помимо труб, вертикально поднимающихся там, где должны быть дома, и разветвляющихся по горизонтали там, где должен быть пол: лес из труб, кончающихся кранами, душами, желобами, переливами”».
Двадцать лет назад Джо опубликовал отрывок из своего аш-два-опуса в Electronic Book Review, и его проза звучала как эхо поэзии Кальвино:
Кстати о крови: рассказываю Джо о тесте ДНК, который сделал по большей части ради здоровья и из интереса относительно тревожных предрасположенностей к заболеванию раком и т.д. Он признает, что обладать подобного рода сведениями ему было бы страшно, но все же задает вопрос: «Зачем мне делать этот тест? Допустим, они предсказали бы, что случится со мной в 93, но, опять же, в чем смысл?»
Тест помог бы узнать о происхождении; спрашиваю Джо о его корнях. Он говорит, что все его предки из Англии и Уэльса, в отличие от моих: греков, швейцарцев и итальянцев.
В дальнем конце пирса Джо вытаскивает черные очки с зеленой окантовкой внутри оправы — куда более смелое заявление, чем мои паленые «рэй бэны». Весьма иронично, но ему не нравится скульптура «Душа воды» — гигантская голова, возвышающаяся на расстоянии.
Буквально голова белой женщины с собранными в пучок волосами и прижатым к губам пальцем, 24 метра в высоту. Скульптор, Жауме Пленса, объясняет послание своего творения так: «мы должны отбросить все слова… дабы услышать глубинную речь воды, обращенную к нам». Возможно, считает Джо, попытка головы заставить нас замолчать лишь мешает слушать голос воды. «С такого расстояния выглядит лучше», — говорит он. И когда улыбается, его щеки приподнимаются, лишь добавляя складок к гусиным оверсайз лапкам его морщин.
Около пятнадцати лет Джо писал книгу (или, лучше сказать, Книгу) о воде. И в последние годы она все время балансировала на грани публикации. Одной из причин задержки является вооруженный конфликт России с Украиной. «Мне нужно пересмотреть выводы», — говорит он, — «в соответствии с тем, как будут развиваться события».
Он с наслаждением погрузился в публицистику Гэсса, в особенности ему понравилось эссе по «Невидимым городам» Итало Кальвино, которое как раз пригодилось для водного проекта. Припоминаю: «Да, в книге Кальвино есть как минимум парочка водных городов, вроде Вальдрады, построенной на берегу озера, на поверхности которого отражается его структура и жители, или Армиллы “без стен, потолков и пола — нет ничего, что делало бы ее похожей на город, помимо труб, вертикально поднимающихся там, где должны быть дома, и разветвляющихся по горизонтали там, где должен быть пол: лес из труб, кончающихся кранами, душами, желобами, переливами”».
Двадцать лет назад Джо опубликовал отрывок из своего аш-два-опуса в Electronic Book Review, и его проза звучала как эхо поэзии Кальвино:
Лучше пить это и не вдыхать. Покончив с этим, мы забываем о потребности, но возвращаемся, пересматриваем заново и удивляемся непрекращающемуся полотну материи вдалеке, поддерживаемой сходством, скрытой расстоянием, удерживаемой поверхностью или привычкой, окачествленной количеством и непременно поддающейся формированию. В трубах и под землёй. В ливне, прибое, открытом море, желобе, раковине, во рту. И в своей непрочной но невероятно отражающей поверхности, в неколебимой глубине, под нами, внутри нас, вне нас. Я звучу как мудрец: это то, что делает вода? Манит, размывает границы личного, думает за нас, напрашивается на неприятности, намекает или льстит, оставаясь безжалостно неподвижной?
Перед нами течет Гудзон со всеми своими полихлорированными бифенилами и прочим. Уровень обоюдного комфорта в общении позволяет погружаться в моменты тишины, прерываемой спорадической болтовней незнакомцев, бесполезными пререканиями автомобильных гудков и остальных неукротимых децибелов большого города.
Мы повернули обратно в сторону дома, и я вспоминаю, как за день до этого смотрел на «Звездную ночь» в Музее современного искусства и как чуть не расплакался: ощущение было такое, словно я воочию наблюдаю мифологическое создание в красочной плоти после стольких рассказов о нем и размытых изображений в книжках и интернете — а Джо рассуждает о коммерциализации искусства, о продаже сотен безделушек с принтами картин, об опошливании опыта, о неуважении к искусству, особенно в случае Винсента Ван Гога, ничего не заработавшего со своих картин: не то, чтобы деньги были основной его целью. Джо уверен, что Ван Гогу это не пришлось бы по вкусу.
Джо, может, в первую очередь и плодовитый романист, но ни в коем случае не заложник одного жанра. Наоборот, вдобавок к эссе, коротким рассказам и многому другому, он написал несколько пьес, хотя ни одна из них так и не была поставлена. И, как будто колоссального водного проекта и древнегреческого романа недостаточно, он работает над двумя пьесами: первая о смертной казни и Трампе, а вторая по-всякому развлекается с фактом отсутствия в шекспировские времена профессии вездесущего менеджера или режиссера. Джо предполагает, что это привело бы к путанице в костюмах и разночтению сцен, вкупе с прочими крупными и мелкими трансформациями.
— Гамлет — величайшая вещь, — отмечает он, — помимо того, что это трагедия, это еще и пьеса про вопросы.
Кажется, он что-то нащупал: в «Гамлете» 430 вопросительных знаков: больше, чем в любой другой пьесе Шекспира, не считая многочастную историю о Генрихах. «И с помыслом, душой непостижимым?», «Такую речь понять вам разумения не хватит?», «Ты знаешь эту мошку?»
Безо всякой причины вдруг вспоминаю его портрет для первого издания «Дозорного картриджа»: у него там бакенбарды, похожие на втянутые волосатые крылья, сейчас значительно укороченные — и в шутку спрашиваю, не жалеет ли он о том, что отрастил их тогда.
— Нет, нет, ни в коем случае. Я продукт среды обитания и культуры времени.
— Вы когда-нибудь курили траву?
— Несколько раз, в 70-х, само собой, но не более того.
Он признает ее медицинскую пользу и способность расширять сознание, но утверждает, шутливо, что его сознание и без того достаточно расширено. Мой опыт с этой психоактивной субстанцией был задушен сводящей с ума паранойей, временно заглушаемой нервным, но чувственным сексом: удовольствие сквозь онемение и покалывание, о котором я не распространяюсь.
Проходим мимо рамен-суши-бара и дневной передержки для собак под названием «Biscuits & Bath» рядом с его домом, затем пробираемся к тесному серебристому лифту. Тросы натягиваются медленно, но довольно гладко. Вспоминаю про недавнюю кончину Уолтера Абиша и рассказываю Джо, будто металлический гроб, в который мы заключены, — хорошее место, чтобы делиться подобными новостями. Но он уже в курсе. Я хотел взять у Абиша интервью и не так давно послал письмо в электронную бездну. Он был одним из друзей Джо. Уолтер Абиш, Уильям Гэсс, Харри Мэтьюз и прочие. С трудом могу представить, насколько всеобъемлющую утрату должен пережить человек, дотянув до девятого десятка: утрату, продиктованную неидеальностью биологических часов тела как такового, не говоря уже про все остальное, что стремится подавить жизнь. Бдительное молчание во время подъема. И тут я говорю: «“Алфавитная Африка” — самая азбучная из всех азбучных».
О да.
«Абиш написал три исключительно уникальных романа, — думаю я про себя, — и покинул нас без лишнего шума».
Мы повернули обратно в сторону дома, и я вспоминаю, как за день до этого смотрел на «Звездную ночь» в Музее современного искусства и как чуть не расплакался: ощущение было такое, словно я воочию наблюдаю мифологическое создание в красочной плоти после стольких рассказов о нем и размытых изображений в книжках и интернете — а Джо рассуждает о коммерциализации искусства, о продаже сотен безделушек с принтами картин, об опошливании опыта, о неуважении к искусству, особенно в случае Винсента Ван Гога, ничего не заработавшего со своих картин: не то, чтобы деньги были основной его целью. Джо уверен, что Ван Гогу это не пришлось бы по вкусу.
Джо, может, в первую очередь и плодовитый романист, но ни в коем случае не заложник одного жанра. Наоборот, вдобавок к эссе, коротким рассказам и многому другому, он написал несколько пьес, хотя ни одна из них так и не была поставлена. И, как будто колоссального водного проекта и древнегреческого романа недостаточно, он работает над двумя пьесами: первая о смертной казни и Трампе, а вторая по-всякому развлекается с фактом отсутствия в шекспировские времена профессии вездесущего менеджера или режиссера. Джо предполагает, что это привело бы к путанице в костюмах и разночтению сцен, вкупе с прочими крупными и мелкими трансформациями.
— Гамлет — величайшая вещь, — отмечает он, — помимо того, что это трагедия, это еще и пьеса про вопросы.
Кажется, он что-то нащупал: в «Гамлете» 430 вопросительных знаков: больше, чем в любой другой пьесе Шекспира, не считая многочастную историю о Генрихах. «И с помыслом, душой непостижимым?», «Такую речь понять вам разумения не хватит?», «Ты знаешь эту мошку?»
Безо всякой причины вдруг вспоминаю его портрет для первого издания «Дозорного картриджа»: у него там бакенбарды, похожие на втянутые волосатые крылья, сейчас значительно укороченные — и в шутку спрашиваю, не жалеет ли он о том, что отрастил их тогда.
— Нет, нет, ни в коем случае. Я продукт среды обитания и культуры времени.
— Вы когда-нибудь курили траву?
— Несколько раз, в 70-х, само собой, но не более того.
Он признает ее медицинскую пользу и способность расширять сознание, но утверждает, шутливо, что его сознание и без того достаточно расширено. Мой опыт с этой психоактивной субстанцией был задушен сводящей с ума паранойей, временно заглушаемой нервным, но чувственным сексом: удовольствие сквозь онемение и покалывание, о котором я не распространяюсь.
Проходим мимо рамен-суши-бара и дневной передержки для собак под названием «Biscuits & Bath» рядом с его домом, затем пробираемся к тесному серебристому лифту. Тросы натягиваются медленно, но довольно гладко. Вспоминаю про недавнюю кончину Уолтера Абиша и рассказываю Джо, будто металлический гроб, в который мы заключены, — хорошее место, чтобы делиться подобными новостями. Но он уже в курсе. Я хотел взять у Абиша интервью и не так давно послал письмо в электронную бездну. Он был одним из друзей Джо. Уолтер Абиш, Уильям Гэсс, Харри Мэтьюз и прочие. С трудом могу представить, насколько всеобъемлющую утрату должен пережить человек, дотянув до девятого десятка: утрату, продиктованную неидеальностью биологических часов тела как такового, не говоря уже про все остальное, что стремится подавить жизнь. Бдительное молчание во время подъема. И тут я говорю: «“Алфавитная Африка” — самая азбучная из всех азбучных».
О да.
«Абиш написал три исключительно уникальных романа, — думаю я про себя, — и покинул нас без лишнего шума».
Как только двери лифта открываются прямо перед апартаментами Джо с высокими потолками, вы оказываетесь лицом к лицу с полностью забитым книжным стеллажом из дерева, металла и рифленого стекла.
Он тянется метра на четыре с половиной, разделяя пространство на два коридора, заставляющего входящих повернуть налево. Еще один поворот налево и вы в кухне/столовой со стильным деревянным гарнитуром и вместительным холодильником из нержавеющей стали.
Направо — гостиная с камином в окружении встроенных книжных шкафов. По другому коридору слева расположен его потрясающий кабинет.
Он тянется метра на четыре с половиной, разделяя пространство на два коридора, заставляющего входящих повернуть налево. Еще один поворот налево и вы в кухне/столовой со стильным деревянным гарнитуром и вместительным холодильником из нержавеющей стали.
Направо — гостиная с камином в окружении встроенных книжных шкафов. По другому коридору слева расположен его потрясающий кабинет.
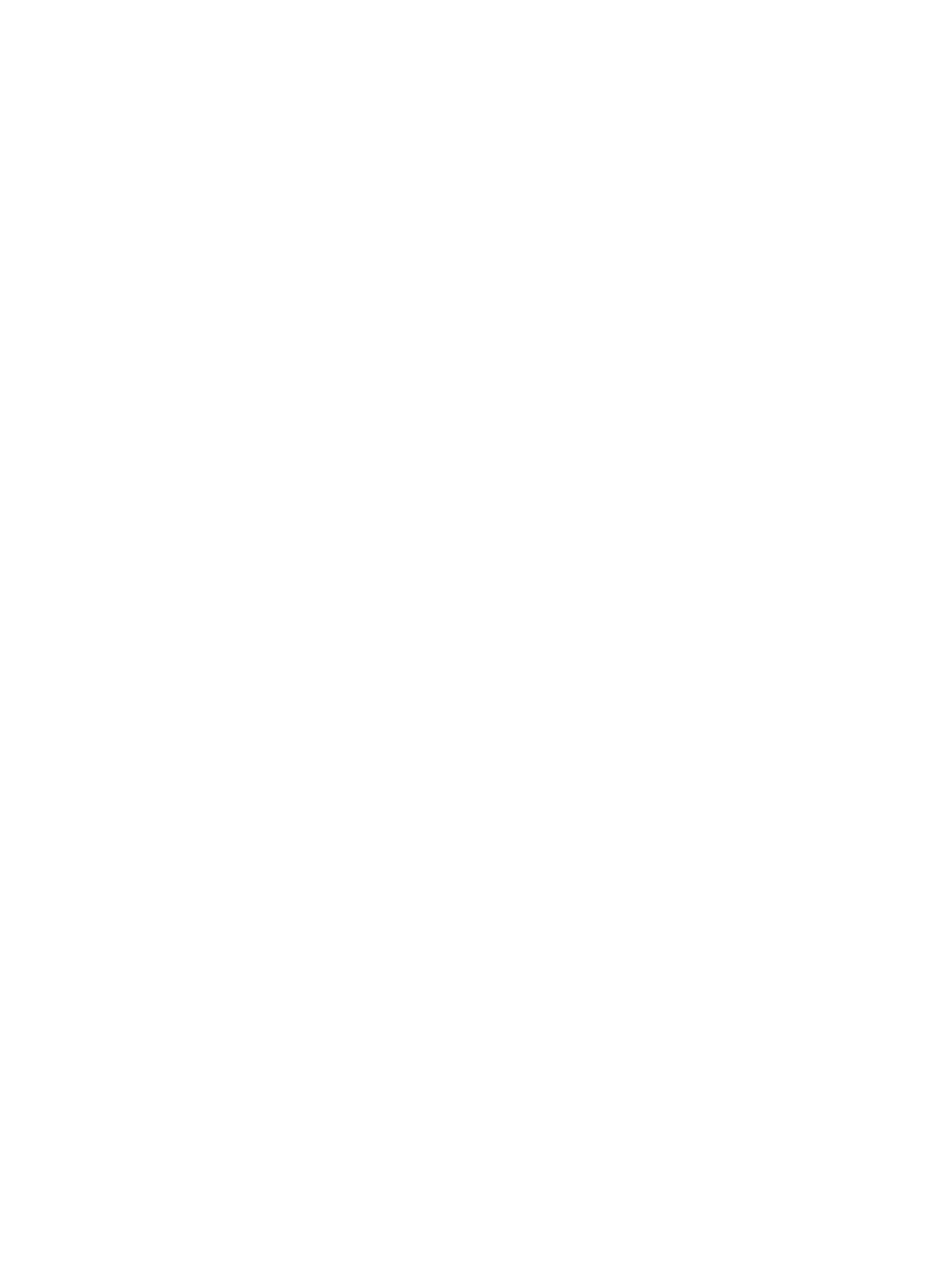
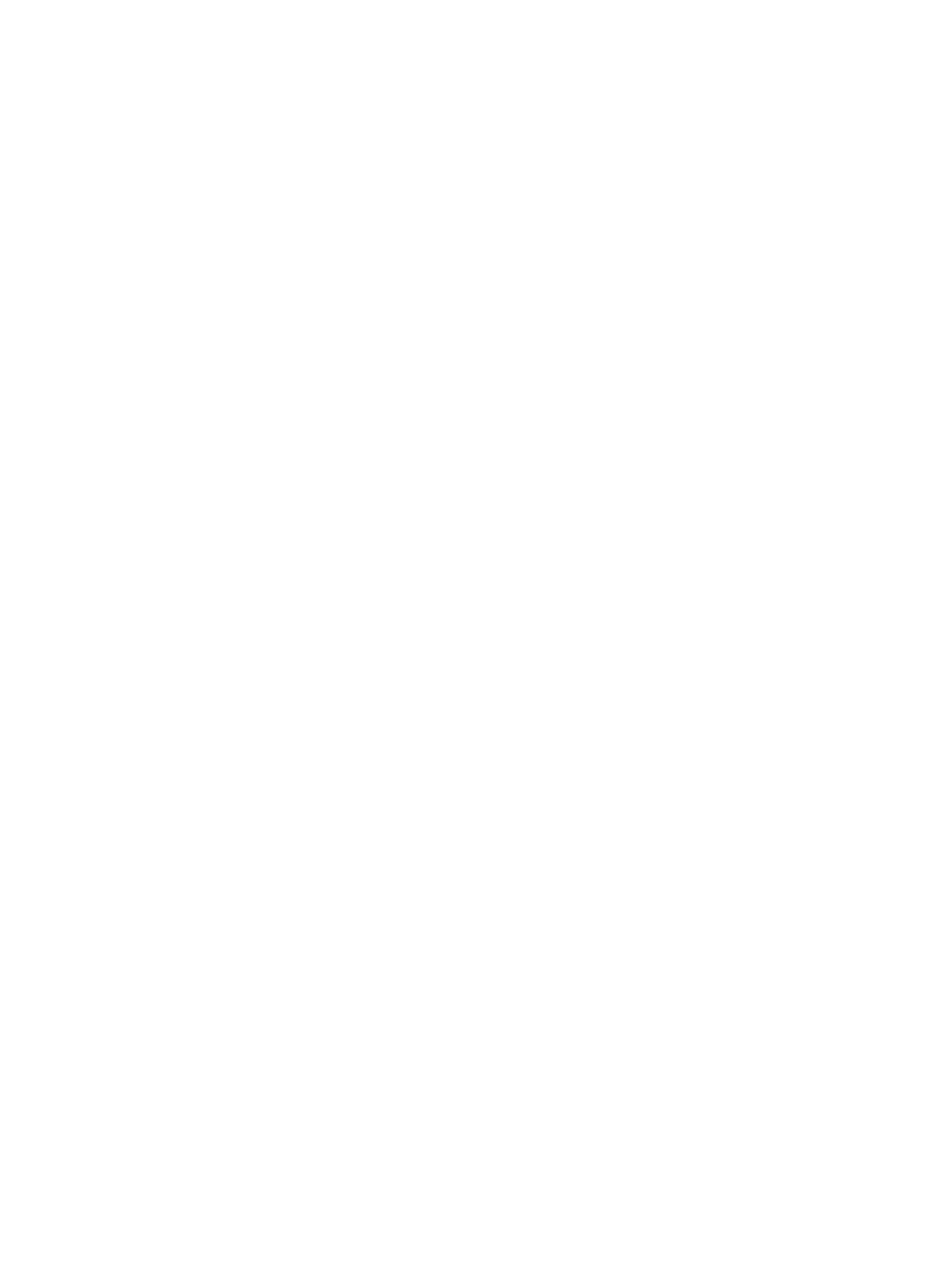
Я всегда сразу смотрю на книги, и несколько названий тут же бросаются мне в глаза: «Последние и первые люди» Олафа Стэплдона, феноменальный пример инновационной научной фантастики (разделу, к которому принадлежит «Плюс»), невероятного масштаба, отображающий синусоиду вымирания и возрождения людей, гуманоидов и прочих. «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса со взглядом с высоты птичьего полета на меняющееся место и население — на самом деле в некотором смысле предтеча взгляда космического глаза на Нью-Йорк в «Женщинах и мужчинах», где любое повествование имеет склонность к неожиданному магизму, реальному или не совсем. В книге Маркеса Ремедиос Прекрасная возносится на небеса благодаря чуду, естественному, словно расцветающий цветок; в книге Джо есть бомба мечты — Бомба-для-людей, уничтожающая только неорганическую материю, «все население здания из темных, светящихся личностей, стремящихся на Землю как парашютисты с еще не раскрытым парашютом. [...] настолько медленно спускающихся с верхних этажей, будто против воли; настолько медленно, что многие отделались синяками». О! — краем глаза замечаю «Бледный огонь» Владимира Набокова — книгу, состоящую главным образом из отступлений, как необъятный шедевр Мелвилла; природа произведений Джо тоже в глубине своей отвлеченная, как и самого его рабочего метода, и сбивчивого, и одержимого, не только опускающегося во все кроличьи норы, но и создающего новые, настаивая на погружении в туннели, пусть даже это приведет к самому ядру, к пылающей звезде, погребенной в толще земли. Как писал Рэй Брэдбери в защиту изречения Полония: «Отступление — душа ума. Заберите все философские отступления у Данте, Мильтона и призрака отца Гамлета — останутся лишь голые кости».
Книги — один из моих способов проявления любви: я люблю не только писать, но и дарить их. И взял с собой несколько для Джо, его сына и жены (она пока что путешествует по Исландии) — жест, за который Джо искренне благодарен. Для Буна — «Ублюдки счастья» Кирби Дойл. Указываю на особенно эффектное начало. Джо бросает беглый взгляд и что-то бормочет в знак согласия, отдельно отмечая фразу «Искусные Истязания Истории». Для Джо — «Клятва в зале для игры в мяч» Джона Эшбери. Он не только перечитывал томик четыре или пять раз, но и дружил с почившим поэтом. Какую книгу подарить человеку, у которого есть все книги?
В попытке сохранить лицо спрашиваю: «Но у вас же еще нет такого издания?»
Такого нет. Затем он закрывает ладонью, лапой с чернильными пятнами, обложку и предлагает мне по буквам произнести фамилию Эшбери — этот тест я прохожу с легкостью. (Позже он напишет мне на электронную почту: «Как-то я перечитывал “Дождь” Эшбери, и там есть такие строчки: “Мы живем во-время, не ко времени/ Все дело в нем”».)
Книги — один из моих способов проявления любви: я люблю не только писать, но и дарить их. И взял с собой несколько для Джо, его сына и жены (она пока что путешествует по Исландии) — жест, за который Джо искренне благодарен. Для Буна — «Ублюдки счастья» Кирби Дойл. Указываю на особенно эффектное начало. Джо бросает беглый взгляд и что-то бормочет в знак согласия, отдельно отмечая фразу «Искусные Истязания Истории». Для Джо — «Клятва в зале для игры в мяч» Джона Эшбери. Он не только перечитывал томик четыре или пять раз, но и дружил с почившим поэтом. Какую книгу подарить человеку, у которого есть все книги?
В попытке сохранить лицо спрашиваю: «Но у вас же еще нет такого издания?»
Такого нет. Затем он закрывает ладонью, лапой с чернильными пятнами, обложку и предлагает мне по буквам произнести фамилию Эшбери — этот тест я прохожу с легкостью. (Позже он напишет мне на электронную почту: «Как-то я перечитывал “Дождь” Эшбери, и там есть такие строчки: “Мы живем во-время, не ко времени/ Все дело в нем”».)
Джо устраивает мне экскурсию по своему кабинету. Еще книжные стеллажи, полностью металлические, выстроились вдоль дальней стены и тянутся к потолку с вавилонской непринужденностью.
Архивные коробки, три в ряд, по четыре друг на друге, исключительно для исследований по водному проекту, стоят как дамба против потока, лавины информации. Как и на столе, что рядом с двумя окнами, бумаги, вырезки, фотографии, открытки, карты, журналы, кипами лежат на любой доступной поверхности. Самая незахламленная из них — длинная парта у противоположной стены, хотя и на ней располагается нескромное количество стикеров для записей, книги в мягком и твердом переплете, песочные часы, растения в горшках, увеличительное стекло и даже свежая связка бананов (точно не отсылка к «Радуге тяготения»). На стене над партой две пробковые доски, полностью увешанные фотографиями и распечатками, венчает все ловец снов. В отличие от Дона Делилло, Джо пошел дальше печатной машинки и работает на белой клавиатуре и самсунговском мониторе.
Джо настаивает: «Хочешь верь, хочешь нет, но я знаю, где что лежит».
Говорю ему, что обстановка такая, будто он пытается раскрыть преступление. Может, он знает, кто скрывается под псевдонимом «Зодиак», где закопан Джимми Хоффа, кто убил Кеннеди или все вышеперечисленное.
Джо хочет подарить мне свою книгу, но у меня есть как минимум по одному изданию всего, что он написал.
— А ты преданный читатель.
— Стараюсь как могу.
Помимо всего остального, на верхних полках, забаррикадированных ящиками, стоит большинство авторских экземпляров, начиная с «Похищения Хинда» и заканчивая последней версией «Женщин и мужчин». Не стану отрицать, что пустил слюну при виде первого издания «Истории древнего мира» в твердом переплете, не говоря уже про суперобложку «Похищения Хинда», отсутствующую на моей копии: с потрясающей сюрреалистической иллюстрацией Джеймса Спанфеллера. Однако попытка взять что-то с этой полки — риск вызвать смертельную лавину всего занимающего пытливый ум Джо. Приходится смириться с тем, что эта крепость останется неприступной.
Джо настаивает: «Хочешь верь, хочешь нет, но я знаю, где что лежит».
Говорю ему, что обстановка такая, будто он пытается раскрыть преступление. Может, он знает, кто скрывается под псевдонимом «Зодиак», где закопан Джимми Хоффа, кто убил Кеннеди или все вышеперечисленное.
Джо хочет подарить мне свою книгу, но у меня есть как минимум по одному изданию всего, что он написал.
— А ты преданный читатель.
— Стараюсь как могу.
Помимо всего остального, на верхних полках, забаррикадированных ящиками, стоит большинство авторских экземпляров, начиная с «Похищения Хинда» и заканчивая последней версией «Женщин и мужчин». Не стану отрицать, что пустил слюну при виде первого издания «Истории древнего мира» в твердом переплете, не говоря уже про суперобложку «Похищения Хинда», отсутствующую на моей копии: с потрясающей сюрреалистической иллюстрацией Джеймса Спанфеллера. Однако попытка взять что-то с этой полки — риск вызвать смертельную лавину всего занимающего пытливый ум Джо. Приходится смириться с тем, что эта крепость останется неприступной.
Джо предлагает выпить чаю. Упускать возможность побеседовать с писателем такого масштаба не хочется, так что я, хотя и не большой любитель чая и кофе, соглашаюсь. Тут он обнаруживает в раковине немытую чайную посуду и в отчаянии машет рукой на беспорядок. Поворачивается ко мне, смотрит своим особенным взглядом и говорит: «Знаешь, твой отец действительно должен тобой гордиться». Я в подробностях рассказывал ему о своем втором романе под названием «Морфологическое эхо», над которым работал уже больше десяти лет (на тот момент он был в нескольких годах от завершения): о том, как книга предлагает читателю путешествие, охватывающее Нью-Йорк 11 сентября, древний Египет, средневековую Францию, Японию 40-х, неолит, «Титаник», чужие планеты и кучу других мест, в основе которого лежит современная неблагополучная семья — и он говорит: «Хочу ее прочитать».
— Это совсем не обязательно. Книга достаточно объемная.
— Ну, уж кое-что про объемные книги я знаю, — ухмыляется Джо.
На следующий день мне на электронную почту приходит от него письмо о фрагменте «Морфологического эхо», опубликованном в последнем выпуске Golden Handcuffs. Кроме прочего, он называет мое творчество «пророческим» — одно слово, равное целой вселенной одобрения.
Да, Джо знает нечто, что знал или знает только определенный пантеон писателей: Доу Моссман, Маргерит Янг, Александр Теру, Джеймс Джойс и другие — борьбу за выход за пределы своих возможностей, если не за пределы литературного канона, существовавшего до. Такие тщетные усилия, такие прекрасные.
В письме от 21 октября 1986 Джо рассказывает о внутренних и внешних метаниях, обязательных для создания книг подобного рода, сверхъестества:
— Это совсем не обязательно. Книга достаточно объемная.
— Ну, уж кое-что про объемные книги я знаю, — ухмыляется Джо.
На следующий день мне на электронную почту приходит от него письмо о фрагменте «Морфологического эхо», опубликованном в последнем выпуске Golden Handcuffs. Кроме прочего, он называет мое творчество «пророческим» — одно слово, равное целой вселенной одобрения.
Да, Джо знает нечто, что знал или знает только определенный пантеон писателей: Доу Моссман, Маргерит Янг, Александр Теру, Джеймс Джойс и другие — борьбу за выход за пределы своих возможностей, если не за пределы литературного канона, существовавшего до. Такие тщетные усилия, такие прекрасные.
В письме от 21 октября 1986 Джо рассказывает о внутренних и внешних метаниях, обязательных для создания книг подобного рода, сверхъестества:
Я осаждал Knopf, потому что мой редактор, давний друг, был не в восторге от длинных и самых удачных фрагментов [«Женщин и мужчин»]; прошлым летом у меня был кризис среднего возраста и я прошел через ад, скажу я вам, пока мне не помог еще один друг, редактор New Yorker, приглашенный участвовать в прениях на моей стороне (это было сродни дуэли), и не сократил текст, в конце концов прорвавшись сквозь бюрократию, испарения и миазмы (именно то слово, которое я искал), и рукопись наконец-то была передана в редактуру в июне, вытянув из меня последние силы, но среди книг последних лет нет ни одной, подобной ей, и, думаю, при текущем объеме в 1200 страниц и постоянно меняющейся музыкой стилей, это должно быть довольно приятное чтение, пусть и в небыстром лирическом темпе. [...] Но как знать? Настолько серьезных читателей не так уж и много. Форма «ЖиМ» — то, чего я добивался: свободная, с множеством аналогий (отражения света, дыхание, очень краткое «приравнивается» к очень длинному и т.д., большое количество вставок) — исключительно искренний роман, как мне кажется.
На протяжении всего вечера чувство неуверенности время от времени дает о себе знать в виде комментария или анекдота. К примеру: Делилло как-то сказал, что Джо — величайший из неизвестных писателей.
— Неизвестных?
— А сколько читателей нужно набрать?
— У меня потрясающая семья и дом, в работе шесть проектов. Я здоров. Чего еще может пожелать писатель?
— Неизвестных?
— А сколько читателей нужно набрать?
— У меня потрясающая семья и дом, в работе шесть проектов. Я здоров. Чего еще может пожелать писатель?
У Джо назначена встреча, из-за которой наша вынужденно сократится. Еще одно прерывание, содержательное или не очень. Я благодарю его за предоставленное время, за гостеприимство, и мы пожимаем друг другу руки. Он протягивает обе. У него довольно мягкое рукопожатие, а взгляд полон молящей доброты.
Несмотря на количество упавших песчинок, полагаю, иногда время не имеет никакого значения: пусть мы и не провели весь день вместе, этот вечер кажется вечным.
Когда я впервые зашел в квартиру к Джо, он подвел меня к большому окну, где на подоконнике ютились несколько птенцов голубей: их оперение перемежалось полукудрявыми неоперившимися волосками цвета соломы, изумление перед миром, жажда роста. Их гнездо было кучкой хворостинок: не домом, а, скорее, обещанием дома. Прямо перед тем, как вернуться в квартиру после прогулки вдоль Гудзона, Джо без малейшего удивления, даже после почти что века, проведенного на Земле, сказал: «Это читается в их глазах… они уже готовы, готовы взлететь».