Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Здесь и далее в скобках дана нумерация страниц в первом издании «Женщин и мужчин» (New York: Alfred A. Knopf, 1987).
Как мне недавно было замечено, данной идентификацией мы обязаны ремарке, подслушанной на вечеринке («Был момент, когда разговоры утихли, и какая-то женщина сказала: “Sue” (“Сью”/“судите[сь]”) [7]) — и это “Sue” вполне может быть считано как императив». — Прим. автора.
Либрация — оптическое явление, видимые колебания (обычно небесных тел) относительно их положения абсолютного баланса. — Прим. переводчика.
От французского mal à propos — "некстати", замена одного слова другим, сходным по звучанию, но абсолютно неуместным по смыслу; происходит от имени персонажа миссис Малапроп из пьесы Ричарда Бринсли Шеридана "Соперники" (1775 г.) Мссис Малапроп часто использует слова, которые не имеют того значения, которое она задумала, но по звучанию похожи на те, которые имеют. — Прим. переводчика.
Оформление содержания — само по себе «поэма» — предполагает слегка отличное распределение глав, в котором те три о Джимми Бэнксе относятся к первой из моих групп, а семнадцатая глава, «МИЛОСЕРДИЕ», — ко второй. — Прим. автора.
впервые опубликовано в Review of Contemporary Fiction, 1990
Мы как одно: введение в "Женщин и мужчин" Джозефа Макэлроя
Автор Харри Мэтьюз
Перевод Ульяны Мытаревой
Редактор Стас Кин
1
«Женщины и мужчины» — книга простая и целостная. Простота иногда сбивает нас с толку, а целостность перерастает в избыток, того и гляди стремящийся перейти все границы. Однако все, происходящее снова и снова, не теряет ясности и единства.
Когда я только начинал читать книгу, то воспринимал заголовок как состоящий из двух компонентов, а когда заканчивал — уже как единое целое: в начале было «Существуют женщины и мужчины», а в конце — «Существуем мы, женщины-и-мужчины». Это означало, что моя мысль эволюционировала из «Существуют» — но не в «Существую я», а в «Существуем мы». Это «Существуем мы» в конечном «Существуем мы, женщины-и-мужчины» включает в себя «Существую я», где «я» было тактично и безвозвратно вовлечено в общность под названием «мы» задолго до того. В одном из фрагментов сказано: «Мы как одно…» — предполагая, что различие между «я» и «другие» некорректно, по крайней мере в контексте данной книги.
Переходы от женщин и мужчин к женщинам-и-мужчинам, от я к мы не выдуманные, сентиментальные или теоретические. Это результат всеобщего сокращения и уничтожения двойственности, разделения, различения, иерархии: в истории, физике, этике, литературе и употреблении языков. Деконструкция происходит не путем сомнений или споров, хотя в этом есть развлекательный момент, а через чтение как таковое: в процессе чтения текста книги образуется новое прочтение реальности. Знаю, это трудно понять, но все равно скажу. Приведу пример, дабы пояснить, что я имел в виду. Это происходит в конце рассказа об оперной певице, которая, пытаясь похудеть, решила подселить в свой организм ленточного червя:
Когда я только начинал читать книгу, то воспринимал заголовок как состоящий из двух компонентов, а когда заканчивал — уже как единое целое: в начале было «Существуют женщины и мужчины», а в конце — «Существуем мы, женщины-и-мужчины». Это означало, что моя мысль эволюционировала из «Существуют» — но не в «Существую я», а в «Существуем мы». Это «Существуем мы» в конечном «Существуем мы, женщины-и-мужчины» включает в себя «Существую я», где «я» было тактично и безвозвратно вовлечено в общность под названием «мы» задолго до того. В одном из фрагментов сказано: «Мы как одно…» — предполагая, что различие между «я» и «другие» некорректно, по крайней мере в контексте данной книги.
Переходы от женщин и мужчин к женщинам-и-мужчинам, от я к мы не выдуманные, сентиментальные или теоретические. Это результат всеобщего сокращения и уничтожения двойственности, разделения, различения, иерархии: в истории, физике, этике, литературе и употреблении языков. Деконструкция происходит не путем сомнений или споров, хотя в этом есть развлекательный момент, а через чтение как таковое: в процессе чтения текста книги образуется новое прочтение реальности. Знаю, это трудно понять, но все равно скажу. Приведу пример, дабы пояснить, что я имел в виду. Это происходит в конце рассказа об оперной певице, которая, пытаясь похудеть, решила подселить в свой организм ленточного червя:
…мы любим её за неё саму, нашлось бы только время, а не за ленточного червя, его озарённый путь, пронзающий, как мысль, нутряную тьму — его собственный тоннель, «червоточину» (будем же откровенны, как и препятствие в самом конце). Препятствие? С чего бы следу вести нас куда-то, если червь обитает в облюбованном теле дивы? Найдётся ли для нас какой-то выход, пока мы пребываем в ожидании следующей передышки?
Неподшитая штанина. Чья? Мы, в целом, пока что знать не знаем, но знание нам отпущено — каблук лишь наполовину занесён на тщедушную ступеньку, назовем её подножкой, услышь же этот шум и звук выхлопной трубы.
Чей? Кто разглядывает фотографию? — звук как от мужчины, дышащего; не наше общее дыхание, но всё же принадлежащее нам, а мы, бездыханные, потерянные ещё в моменте прохождения конца того, что помнится будто проглоченный нашей дивой ленточный червь, но в каждый отдельный момент времени преобразующий уплотнение отходов внутри нас во временной тоннель; но кто-то ведь точно дышит. (c. 19)1
Неподшитая штанина. Чья? Мы, в целом, пока что знать не знаем, но знание нам отпущено — каблук лишь наполовину занесён на тщедушную ступеньку, назовем её подножкой, услышь же этот шум и звук выхлопной трубы.
Чей? Кто разглядывает фотографию? — звук как от мужчины, дышащего; не наше общее дыхание, но всё же принадлежащее нам, а мы, бездыханные, потерянные ещё в моменте прохождения конца того, что помнится будто проглоченный нашей дивой ленточный червь, но в каждый отдельный момент времени преобразующий уплотнение отходов внутри нас во временной тоннель; но кто-то ведь точно дышит. (c. 19)1
Мужчина на подножке — отец, которого застали в ответственный момент жизни, жизни Джеймса Мэйна, одного из центральных персонажей книги и, вполне вероятно, «кого-то дышащего». Столько всего можно сказать об отрывке, насыщенность и плотность которого требует куда более полного толкования, но один вывод можно сделать уже сейчас: знакомая дискретность времени, места и неразрывности терпит крушение ровно в тот момент, когда «мы» (я? вы? и ленточный червь?) переносимся из задней части известной сопрано в совершенно другую историю. Услышь же звук выхлопной трубы!
2
«Мы»: могло бы это «мы» на самом деле включать в себя ленточного червя? Возможно. В конце концов, потом этого червя будут описывать как «ангельского» (с. 168), а в «Женщинах и мужчинах» так называемые ангелы часто появляются в тех же эпизодах, что и «мы». Эти ангелы ассоциируются с «нашим» знанием и познанием (обратите внимание на «…червя, его озаренный путь, пронзающий, как мысль…»); а ассоциирование ангелов с «нами» настолько постоянно, что временами кажется, будто мы и есть эти ангелы («мы… просто не можем не быть ангелами» [с. 338]); однако это не всегда до конца или в полной мере так. В самом начале мы «слышали, что ангелы спекулируют внутри нас» (с. 9), а «иногда мы даже не знаем, что они такое». (с. 10). Примерно в то же время возникает еще один вопрос: «мы слышали про какое-то “мы”. Так что это такое?». (с. 11). И потому мы надеемся в ходе чтения узнать, что такое и эти ангелы, и «мы», а процесс познания приводит нас к моменту, когда «мы» превращаемся в ангелов, или куда более ясному осознанию: «мы» и есть ангелы.
Эти ангелы впервые проявляются как голос внутри нас, а после — как голос между нами. И теперь кажется, будто бы «мы» внутри них:
Эти ангелы впервые проявляются как голос внутри нас, а после — как голос между нами. И теперь кажется, будто бы «мы» внутри них:
На такое не соглашаешься специально, но ты всё равно часть других голосов, так что и сам не слышишь, как они говорят тебе, какого ты типа человек: почти не слышишь голосов. Тобой говорят. Как и голосами, что слышат тебя. Это новое ощущение — неужели что-то внутри тебя разбилось вдребезги уже давным-давно? (с. 56)
Стоит ли отдельно упоминать, что в этом отрывке звучит именно «ты», в единственном числе (подразумевая Джеймса Мэйна), а голоса — во множественном? В еще одном случае слияние единственного-множественного описано с точностью наоборот: «Внутренний голос должен получить то, зачем появился. Так что мы, ангелы или нет, в любом случае выделяем её: Грейс Кимбалл» (с. 159), где оппозиция единственного/множественного подчеркнута глаголом «выделяем» (single out) и, в свою очередь, в следующем абзаце взрывается рассказом о подчеркнуто множественных ролях Грейс в отношениях с бывшим мужем (где она любовница, сестра, приятель, жрица, дочь…).
Когда половина книги прочитана, а множество, судя по всему, разрозненных историй с бесчисленными персонажами переплелись друг с другом, мы в нашей уязвимости к присутствию и действиям этих ангелов доросли до понимания их множество-единства, до его признания, настолько, что мы как «мы» получили возможность отказаться от собственных физических сингулярностей:
Когда половина книги прочитана, а множество, судя по всему, разрозненных историй с бесчисленными персонажами переплелись друг с другом, мы в нашей уязвимости к присутствию и действиям этих ангелов доросли до понимания их множество-единства, до его признания, настолько, что мы как «мы» получили возможность отказаться от собственных физических сингулярностей:
Мы и кратные нам всматривались в свои прошлые перерождения, в которых так нуждались, к которым так стремились и, наконец, обрели; но как только переносились в них, мы, некоторые из нас, частями, ветвями чувствовали ток крови, искры подлинных ощущений… в будущности телами, которые когда-то обживали и покинули. Это ощущение совсем не походило на разрыв, так что мы (или дышащее большинство) доказали: мы уже знали всё то, что видели тогда: не было никаких ангелов, охраняющих праведность нашего пути и непрерывность нашей истории и изменчивого дыхания, ибо мы есть те ангелы и, будучи таковыми, обязаны навсегда стать собой, что и значило бы избавиться от перерождений, дабы защитить ход сознания или даже мысли, если не чистое золото. (сс. 435-36)
«Мы» стали ангелами и сделали это отчасти следуя «ходу» познания, то есть, будучи способными «доказать», «увидеть» и «узнать». Превращение в ангелов означало познать суть знания. В конечном счете это упрощается до: «Мы узнали, что являемся языком» (с. 1113), но к моменту, как это утверждение появилось, произошло так много всего, что нам лучше отложить рассуждения о природе знания в «Женщинах и мужчинах» на потом.
Однако что же с «нами»? Разве «мы» и только «мы» являемся ангелами? А как же ленточный червь? и оперная дива? и в особенности Джеймс Мэйн?
Однако что же с «нами»? Разве «мы» и только «мы» являемся ангелами? А как же ленточный червь? и оперная дива? и в особенности Джеймс Мэйн?
3
Затруднения в отслеживании постановки кавычек вокруг «мы» и «нас» на предыдущих страницах свидетельствуют об определенной моей склонности, игнорировать которую не стоит. В самом начале чтения «Женщин и мужчин» — точно до конца второй главы — я присоединился к первому попавшемуся сообществу, которое меня бы приняло. Кого еще я в тот момент воображал причастным к этому «мы», частью которого теперь себя ощущал?
Среди множества персонажей в романе — коих там 122, если мне не изменяет память, не включая тех, чьи имена едва встречаются — нет ни одного, которого можно было бы идентифицировать как «Я»-рассказчик. (Читатели же, напротив, время от времени представлены кем-то, кого называют следователем или дознавателем, кем-то, кто врезается в поток событий, чтобы задать вопрос или что-то прокомментировать, делая это вневременно, превращая голос в слушателя, кузена двух чтецов из «Если однажды зимней ночью путник» Кальвино.) Мы предполагаем, что автор по-разному живет в нескольких персонажах. Например, в старом метеорологе, который составляет карту отношений между погодными условиями и (среди всего прочего) береговыми линиями; на протяжении всей книги погода показана нам как не-символическое представление нерегулярности и неустанности знания:
Среди множества персонажей в романе — коих там 122, если мне не изменяет память, не включая тех, чьи имена едва встречаются — нет ни одного, которого можно было бы идентифицировать как «Я»-рассказчик. (Читатели же, напротив, время от времени представлены кем-то, кого называют следователем или дознавателем, кем-то, кто врезается в поток событий, чтобы задать вопрос или что-то прокомментировать, делая это вневременно, превращая голос в слушателя, кузена двух чтецов из «Если однажды зимней ночью путник» Кальвино.) Мы предполагаем, что автор по-разному живет в нескольких персонажах. Например, в старом метеорологе, который составляет карту отношений между погодными условиями и (среди всего прочего) береговыми линиями; на протяжении всей книги погода показана нам как не-символическое представление нерегулярности и неустанности знания:
…уравнение конфигурации для самого побережья, разработанное старым метеорологом,… выглядело будто канадская синусоида, только для походящего на береговую линию пути, который проходят наши нейроны, извлекающие воспоминания, но всё же всегда чувствующие: путник, нет никаких путей — они возникают под ногами идущих… (с. 346)
Вот Джеймс Мэйн, мужчина средних лет, — вероятно, наиболее отцентрованное средоточие «сознания» для кого угодно (кроме нас), который считает, будто никогда не видит снов, и чья интуиция говорит: он прибыл в настоящее из будущего, так что он, живя в настоящем, смотрит вперед в прошлое. А вот юный Ларри Ширсон, студент, который изучает и наполовину изобретает «геометрию препятствий» наряду с прочими практичными в применении взглядами на реальность (к примеру, вращением геометрических фигур в пространстве и времени). Можно было бы сказать, что подобные фигуры представляют автора не как подобия, — скорее, как посланников, озабоченных процессами исследования и познания, центральными для книги.
Старый метеоролог и Ларри Ширсон принадлежат к тому же кластеру персонажей, что и Джеймс Мэйн. Другой кластер ассоциируется с Грейс Кимбалл, суперфеминисткой и учительницей, занятой повышением сознательности, настолько в своей широте понимания походящей на богиню, что обстоятельства нашей первой встречи — она активно мастурбировала на «огромном нетронутом ковре зеркальной Телесной Комнаты» (с. 100) — кажутся столь же приятными, сколь удивительными, и совсем не созвучными возвышенной, запредельной мудрости ее медитации. И еще один кластер включает в себя оперных или чилийцев, формируясь вокруг Луизы, чилийской дивы, носительницы ленточного червя. Есть и группа куда более свободная и мистическая, связанная с лавкой в даунтауне, где Сеньора Ван предсказывает судьбу, и со службой посыльных-с-ограничениями (их учредитель, Джимми Бэнкс, среди множества располагающих персонажей, думаю, нравится мне больше всего). Кластер юго-запада включает в себя Принца Навахо и целителя Анасази. Ну и, в конце концов, не забудем о Фоли, заключенном и технически отрезанном от всех кластеров, но фактически связанном и с Джеймсом Мэйном, и с чилийцами, но в любом случае убежденном в неограниченных возможностях связи между людьми согласно теории «коллоидного бессознательного», «бесконечной общности сознаний». (с. 690)
Когда мы читаем рассказ Фоли о его «наивной» теории, то находимся уже дальше середины книги. И к тому моменту готовы воспринимать теорию как нечто весьма убедительное. Члены разных кластеров установили прямой и опосредованный контакт и неоднократно появлялись в историях друг друга, но, помимо того, еще менее традиционный образ пересечения начал подрывать наше восприятие персонажей как обособленных единиц. Имена, например, используются явно не таким образом, что способствовал бы четкому распределению списка действующих лиц в нашем сознании.
С догадками о том, почему персонажи в «Женщинах и мужчинах» носят конкретно эти имена, можно играться вечно. Многие имена — вероятно, и вовсе все? — могут считываться как краткие описания или символы. Джеймс Мэйн — наименование именно того, кто мог бы: он также носит инициалы автора. Фамилия Ларри — Shearson: sheer son — чистейший сын. Майга и Мина, две чилийки, приезжающие в Америку в разные отрезки времени, звучат как мажор и минор. Имя неземной Грейс Кимбалл (grace — «[божья] милость») имеет вполне очевидное значение, но Кимбалл? Kimball — «Can ball» («может сделать вопреки»)? Это лишь игра, и ей не стоит придавать слишком большого значения: несмотря на то, что книга изобилует подобными подлежащими дешифровке деталями, было бы преступлением против Святого Духа вот так снижать его заоблачную крейсерскую скорость беспричинными актами криптоанализа.
Однако прочие аспекты имен в «Женщинах и мужчинах» можно рассмотреть и без наших попыток замедлиться. Мы знакомимся со Сью еще где-то в начале книги2, а потом встречаем ее вновь, впрочем, не узнавая; в конце концов мы заключаем (о такой вероятности едва ли упоминается), что Сью, должно быть, две. Первая Сью ощущает родство с верховной жрицей Нормой из оперы с тем же названием: дива Луиза поет партию Нормы; существует настоящая (если так можно выразиться) Норма; и есть Сара, которая, больше как Сью, напоминает Норму из оперы (с. 196). Эта Сара, мать Джеймса Мэйна, не исключает ни существования другой Сары (на самом деле одной из Сью), ни желания дочери Джеймса Мэйна, чтобы ее называли Сарой, ни появления еще одной дочери Сары такого возраста, когда они учатся ездить на велосипеде (с. 783). Джеймс Мэйн знакомится с Диной Уэст из Альбукерке; Луиза и чилийцы переживали по поводу ДИНА, чилийской тайной полиции. На 1080-й странице, то есть, ближе к концу книги, впервые появляется вторая женщина по имени Эми. На той же странице мы наконец-то узнаем имя чилийского офицера флота, которого уже успели достаточно узнать: де Талька (он, что, собирается пудриться?). Задолго до этого мы безо всяких трудностей узнали мерзкого Спенса под маской Рэя Санти (также известного как Санти Сью).
Очевидно имена не — или по крайней мере не в обязательном порядке — описывают конкретные личности; или, скорее, любая существующая индивидуальность зиждется не в имени. (Ларри Ширсон, размышляя об «одновременном перерождении», «продолжал наслаждаться сном об именах, наслаждаясь даже расстоянием от одного их выводка до другого, который еще не укладывался в его голове…» [с. 1071].) И все персонажи похожи на свои имена: им трудно оставаться внутри тех голов и тел, что им даны. Фоли пишет Мэйну: «…В твоей голове я слышу в основном свою речь (улыбку)» (с. 722). Грейс Кимбалл размышляет: «Люди… исчезали в людях. Были ли они людьми? Кто-то вошел в нее, но из глубокой древности или из будущего, как знать?» (с. 145). (И этот кто-то, входящий, — Джеймс Мэйн, которого она никогда не встретит.) Из-за того, что страницы, абзацы и предложения автора растянуты ровно настолько, чтобы включить в себя места за тысячи миль и времена в сотнях лет друг от друга, люди и их действия сопоставляются и, в конце концов, сплавляются. (Это демонстрирует, чтó Ларри узнал о вращении: если сделать поворот на 90˚, параллельное становится равным: превращается из || в =). Старый метеоролог становится «тем же», что и Отшельник-Изобретатель из Нью-Йорка прошлого века или целитель Анасази (вечность ±500) с юго-запада. Индейская кровь связывает восток с западом, как Грейс и Спенса, например. Джим Мэйн не только Грейс Кимбалл — «“ну и дерьмо, вся эта хрень про сожаление”, — сказали в унисон Джеймс Мэйн и Грейс Кимбалл, потому что, видимо, они могут слышать друг друга на расстоянии, сами того не зная…» (сс. 618-19) — по словам его бабушки, которая рассказала ему их истории, он «вполне может быть и Анасази, и Отшельником». (с. 852). Эта бабушка «продублирована как Маргарет или Восточная Принцесса» (с. 1124), и она практически превращается в чью-то еще бабушку, когда девушка Джима, Джин, упоминает ее вместо своей собственной. Вдобавок к тому, кроме прочего, как бы там ни было, за годы до того, как целитель Анасази обернулся «серебристым облаком», Восточная Принцесса стала «залитым солнцем облаком» (с. 193) (или туманом, с. 416), и оба они приняли такую форму по схожим причинам. В какой-то момент мы все не можем не думать о том, кто не превращается в кого-то еще.
Джеймс Мэйн, убежденный в том, что прибыл из будущего, вспоминает из этого будущего один необычный метод космических путешествий (и контроль рождаемости), который ловко срабатывает как аллегория образа слияния личностей, следующего из упомянутых дальше событий:
Старый метеоролог и Ларри Ширсон принадлежат к тому же кластеру персонажей, что и Джеймс Мэйн. Другой кластер ассоциируется с Грейс Кимбалл, суперфеминисткой и учительницей, занятой повышением сознательности, настолько в своей широте понимания походящей на богиню, что обстоятельства нашей первой встречи — она активно мастурбировала на «огромном нетронутом ковре зеркальной Телесной Комнаты» (с. 100) — кажутся столь же приятными, сколь удивительными, и совсем не созвучными возвышенной, запредельной мудрости ее медитации. И еще один кластер включает в себя оперных или чилийцев, формируясь вокруг Луизы, чилийской дивы, носительницы ленточного червя. Есть и группа куда более свободная и мистическая, связанная с лавкой в даунтауне, где Сеньора Ван предсказывает судьбу, и со службой посыльных-с-ограничениями (их учредитель, Джимми Бэнкс, среди множества располагающих персонажей, думаю, нравится мне больше всего). Кластер юго-запада включает в себя Принца Навахо и целителя Анасази. Ну и, в конце концов, не забудем о Фоли, заключенном и технически отрезанном от всех кластеров, но фактически связанном и с Джеймсом Мэйном, и с чилийцами, но в любом случае убежденном в неограниченных возможностях связи между людьми согласно теории «коллоидного бессознательного», «бесконечной общности сознаний». (с. 690)
Когда мы читаем рассказ Фоли о его «наивной» теории, то находимся уже дальше середины книги. И к тому моменту готовы воспринимать теорию как нечто весьма убедительное. Члены разных кластеров установили прямой и опосредованный контакт и неоднократно появлялись в историях друг друга, но, помимо того, еще менее традиционный образ пересечения начал подрывать наше восприятие персонажей как обособленных единиц. Имена, например, используются явно не таким образом, что способствовал бы четкому распределению списка действующих лиц в нашем сознании.
С догадками о том, почему персонажи в «Женщинах и мужчинах» носят конкретно эти имена, можно играться вечно. Многие имена — вероятно, и вовсе все? — могут считываться как краткие описания или символы. Джеймс Мэйн — наименование именно того, кто мог бы: он также носит инициалы автора. Фамилия Ларри — Shearson: sheer son — чистейший сын. Майга и Мина, две чилийки, приезжающие в Америку в разные отрезки времени, звучат как мажор и минор. Имя неземной Грейс Кимбалл (grace — «[божья] милость») имеет вполне очевидное значение, но Кимбалл? Kimball — «Can ball» («может сделать вопреки»)? Это лишь игра, и ей не стоит придавать слишком большого значения: несмотря на то, что книга изобилует подобными подлежащими дешифровке деталями, было бы преступлением против Святого Духа вот так снижать его заоблачную крейсерскую скорость беспричинными актами криптоанализа.
Однако прочие аспекты имен в «Женщинах и мужчинах» можно рассмотреть и без наших попыток замедлиться. Мы знакомимся со Сью еще где-то в начале книги2, а потом встречаем ее вновь, впрочем, не узнавая; в конце концов мы заключаем (о такой вероятности едва ли упоминается), что Сью, должно быть, две. Первая Сью ощущает родство с верховной жрицей Нормой из оперы с тем же названием: дива Луиза поет партию Нормы; существует настоящая (если так можно выразиться) Норма; и есть Сара, которая, больше как Сью, напоминает Норму из оперы (с. 196). Эта Сара, мать Джеймса Мэйна, не исключает ни существования другой Сары (на самом деле одной из Сью), ни желания дочери Джеймса Мэйна, чтобы ее называли Сарой, ни появления еще одной дочери Сары такого возраста, когда они учатся ездить на велосипеде (с. 783). Джеймс Мэйн знакомится с Диной Уэст из Альбукерке; Луиза и чилийцы переживали по поводу ДИНА, чилийской тайной полиции. На 1080-й странице, то есть, ближе к концу книги, впервые появляется вторая женщина по имени Эми. На той же странице мы наконец-то узнаем имя чилийского офицера флота, которого уже успели достаточно узнать: де Талька (он, что, собирается пудриться?). Задолго до этого мы безо всяких трудностей узнали мерзкого Спенса под маской Рэя Санти (также известного как Санти Сью).
Очевидно имена не — или по крайней мере не в обязательном порядке — описывают конкретные личности; или, скорее, любая существующая индивидуальность зиждется не в имени. (Ларри Ширсон, размышляя об «одновременном перерождении», «продолжал наслаждаться сном об именах, наслаждаясь даже расстоянием от одного их выводка до другого, который еще не укладывался в его голове…» [с. 1071].) И все персонажи похожи на свои имена: им трудно оставаться внутри тех голов и тел, что им даны. Фоли пишет Мэйну: «…В твоей голове я слышу в основном свою речь (улыбку)» (с. 722). Грейс Кимбалл размышляет: «Люди… исчезали в людях. Были ли они людьми? Кто-то вошел в нее, но из глубокой древности или из будущего, как знать?» (с. 145). (И этот кто-то, входящий, — Джеймс Мэйн, которого она никогда не встретит.) Из-за того, что страницы, абзацы и предложения автора растянуты ровно настолько, чтобы включить в себя места за тысячи миль и времена в сотнях лет друг от друга, люди и их действия сопоставляются и, в конце концов, сплавляются. (Это демонстрирует, чтó Ларри узнал о вращении: если сделать поворот на 90˚, параллельное становится равным: превращается из || в =). Старый метеоролог становится «тем же», что и Отшельник-Изобретатель из Нью-Йорка прошлого века или целитель Анасази (вечность ±500) с юго-запада. Индейская кровь связывает восток с западом, как Грейс и Спенса, например. Джим Мэйн не только Грейс Кимбалл — «“ну и дерьмо, вся эта хрень про сожаление”, — сказали в унисон Джеймс Мэйн и Грейс Кимбалл, потому что, видимо, они могут слышать друг друга на расстоянии, сами того не зная…» (сс. 618-19) — по словам его бабушки, которая рассказала ему их истории, он «вполне может быть и Анасази, и Отшельником». (с. 852). Эта бабушка «продублирована как Маргарет или Восточная Принцесса» (с. 1124), и она практически превращается в чью-то еще бабушку, когда девушка Джима, Джин, упоминает ее вместо своей собственной. Вдобавок к тому, кроме прочего, как бы там ни было, за годы до того, как целитель Анасази обернулся «серебристым облаком», Восточная Принцесса стала «залитым солнцем облаком» (с. 193) (или туманом, с. 416), и оба они приняли такую форму по схожим причинам. В какой-то момент мы все не можем не думать о том, кто не превращается в кого-то еще.
Джеймс Мэйн, убежденный в том, что прибыл из будущего, вспоминает из этого будущего один необычный метод космических путешествий (и контроль рождаемости), который ловко срабатывает как аллегория образа слияния личностей, следующего из упомянутых дальше событий:
Меж тем, десятилетия спустя, в недалёком будущем два человека стоят на металлической платформе, надеясь вскоре оказаться совсем в другом месте. И, вне всякого сомнения, за ними стоят ещё пары в ожидании своей очереди, чтобы встать на платформу и исчезнуть из поля зрения. Что же будет с этими людьми? Платформа — телепорт,… а люди на ней направляются в космическую колонию на границе между Землей и Луной: хотя там и чувствуешь себя как дома, пребывание в колонии построено на принципе экономии, так что ничего не подозревающие первопроходцы прибывают туда уже как один человек, а не как пара, которой изначально были. Но как это ощущается? Это снова какой-то Опыт? И что происходит с их одеждой? (сс. 45-46)
Перенесенные «частотами в одно» (с. 92), двое прибывают в либрационное3 космическое поселение, где точка либрации балансирует на грани (или колеблется) между притяжением Земли и Луны. Либрация: сонная Джин — ей (и нам) Джеймс Мэйн рассказывает свою историю, слышит слова: «Либрация, вибрация». (с. 79). Всматриваясь в слово, так и хочется весьма точно добавить в него букву e: либ-е-рация — а точно потому, что либрационные «космические города» свободны от многих вещей вроде погоды (с. 590) или разводов. (с. 625). И новый порядок довольно удовлетворительный:
…многие из этих избранных поселенцев — каждый из них был скомпонован из двух исходных земных людей (в большинстве случаев хотя бы просто знакомых друг с другом) — сообщали о непреходящем чувстве наполненности сразу после прибытия, которое позже отнесли на счёт запредельно сильного ощущения, появившегося, в свою очередь, из безусловного источника внутренней силы каждой из личностей… ничего кроме, только личности… Две телесные проекции где-то далеко слиты воедино и теперь исполнены свечения сверх того, с чем могут справиться данные богом клетки во всех своих просвечивающих мембранах, как графическая оболочка, что силится узреть будущее, пока кто-то из старомодных женщин или мужчин, то и дело высылаемых, как Мэйн, для отчёта, чувствует себя сверхсмертным рядом с этими колониями, утрамбованными ради такой простой экономии, что это скорее проблема, чем её решение… (сс. 890-91)
Безобидная картинка: находящийся снаружи этой аллегории и касающийся бóльшей части меняющихся-сливающихся персонажей, населяющих книгу, среди которых «мы» счастливы обнаружить себя, надеясь, что «они» являются частью нас, к которым я раньше решил принадлежать: персонажи варьируются от агентов Пиночета до политически вдохновляющих учителей — всем им безошибочно удается вызвать у нас сострадание, ведь никого из них нельзя полноценно винить.
(Кроме Спенса, который абсолютно за гранью: мерзкий тип, проплаченный шпион, возможно, наемный убийца, не достойный ничьего сострадания или прощения…)
В конце концов мы узнаем, что безобидная картинка была произведена на свет фантазией Джеймса Мэйна — «чудо, наблюдаемое румяным, витающим в облаках юношей, что лежит на слегка продавленной кровати в комнате на втором этаже дома в Нью-Джерси…». (с. 1118). И мы не можем не задаться вопросом, не выдумал ли он и все остальное, происходящее в «Женщинах и мужчинах», не его ли сон придает всему изобилию книги общность. Но, если и так, кто же все это время смотрел сон о Джеймсе Мэйне, если не мы?
(Кроме Спенса, который абсолютно за гранью: мерзкий тип, проплаченный шпион, возможно, наемный убийца, не достойный ничьего сострадания или прощения…)
В конце концов мы узнаем, что безобидная картинка была произведена на свет фантазией Джеймса Мэйна — «чудо, наблюдаемое румяным, витающим в облаках юношей, что лежит на слегка продавленной кровати в комнате на втором этаже дома в Нью-Джерси…». (с. 1118). И мы не можем не задаться вопросом, не выдумал ли он и все остальное, происходящее в «Женщинах и мужчинах», не его ли сон придает всему изобилию книги общность. Но, если и так, кто же все это время смотрел сон о Джеймсе Мэйне, если не мы?
4
— всё, что мы имеем в остатке — тикоподобная тенденция субъекта что-то невнятно бормотать, разве что в белой горячке, чья неоднозначность располагает ко всё большей приверженности методу одного лишь кнута—
— Бам! в тот раз мы сами сделали это с собой, мы придерживаемся правил, не вдаваясь в подробности, делая это с прочими, находясь здесь лишь ради белой горячки и дыхания такого же двусмысленного, что и романский язык. (с. 329)
— Бам! в тот раз мы сами сделали это с собой, мы придерживаемся правил, не вдаваясь в подробности, делая это с прочими, находясь здесь лишь ради белой горячки и дыхания такого же двусмысленного, что и романский язык. (с. 329)
Не только имена, но и все прочие слова приобретают в «Женщинах и мужчинах» обширную неоднозначность: двусмысленность захватывает взор, слух и мысли, разрушая рамки категорий и различия и объединяя несопоставимое. Есть, конечно, и куча каламбуров, иногда вопиющих, как те происходящие из преемственности Гамлета («Нью-Йорик» [с. 1175]), и, с очевидной ссылкой на такую концентрацию проституции «…о которой в вашем шлюшьем коэффициенте и помыслить нельзя» [с. 422]), временами просто-напросто тревожащих (как связь «морального» и «femорального», или использование «би-son’ов» для обозначения двух связанных сыновей), но никогда не беспричинных. Разрастание ощущений, связанных со словами и перемещением между словами, как правило, менее явно и происходит, скорее, поступательно и незаметно, пока не заполнит своим цветом поверхность всей книги. Это как если бы язык был кольтом или парой кольтов, фигурирующих в прошлом семьи Мэйна, из-за которых в глазах двоится: «…древний Анасази… так как ее появление на верхней ступени лестницы заставило упомянутый пистолет отбрасывать две тени, увидел две луны…». (с. 401). К этому следует добавить еще один взгляд на событие: «Отшельник-Изобретатель из Нью-Йорка спросил, та Двойная Луна, что осветила пистолет, который Мена принесла в камеру, превратила ли она его в два пистолета или только породила слухи о двух источниках одного». (с. 829)
Кольты — само собой, револьверы. Механизм револьвера подразумевает поворот, как в геометрическом вращении, изучаемом Ларри Ширсоном. Это вращение — форма приумножения; кольт умножает или, вероятнее, является умножителем. В другом эпизоде с появлением кольта Джеймс Мэйн обнаруживает себя в его барабане, смотрящим наружу из отверстия. Вид напоминает червоточину дивы, так револьвер связывается с другим набором общей лексикой и событиями: ленточный червь и его путь, эхом разносящийся в одном из главных инструментов исследования у Грейс Кимбалл — диктофоне (и сколько там дорожек?); замочная скважина, сквозь которую Джеймс Мэйн шпионит за матерью и братом, однажды названная «червоточиной» (с. 196), что обосновывает сходство с барабаном кольта; кишечник (тоже «colon», ранее встречающееся в цитате как двоеточие (еще одно «colon»)) дивы, называемый также «ветровой трубой», протягивает нить к теме ветра и всем ее ответвлениям вроде «дыхания ветра», которое слушает Мэйн (с. 197), равно как и к теме пустоты (void), как в глаголе «опустошать [кишечник]» (to void), отсылающем нас обратно к Грейс Кимбалл и ее лечебным клизмам, где пустота также была часто встречающимся промежутком — необходимым к прохождению препятствием на пути познания…
Эту цепочку можно протягивать туда-обратно по всей книге, но мысль должна быть уже понятна: слова нельзя ограничить, отведя им роль имен конкретных вещей. Они определяют и другие вещи помимо тех, названиями которых являются; вещи же иногда притягивают имена, которые им не вполне подходят. В самом начале (с. 10) мы замечаем это ненормальное, но и не такое уж необычное положение дел в небольшом девайсе, с непостоянной частотой добавляющем свой звоночек в общий поток повествования: за словом следуют скобки, а в скобках написана альтернатива к нему: «… формируя другую точку зрения для будущего упоминания (читай: «пребывания»)…». (с. 10). Позже девайс в некотором смысле достигает апогея в заключении, полном сведений и игры слов: «…дюжина других вопросов относительно прохода того, что, как мы знали, находится в нас. Прохода? (читай: червоточины, читай: ветровой трубы, читай: камеры нулевой гравитации, читай: временнóй перегородки…)». (с. 184). Использование слов в «Женщинах и мужчинах» заставляет нас ощутить: за одними словами в ожидании кроются другие, и каждое из них может привести нас ко всем остальным словам.
Двойственную натуру слов разделяет и ими означаемое. Подобно персонажам, объекты, действия и последовательности, которые слова обозначают, склонны терять свои уникальные свойства, накладываясь друг на друга, сливаясь, хотя слияние их происходит не столько друг с другом, но, скорее, они подчиняются общей идее: так общее понятие «отверстия» объединяет в себе червоточину, барабан револьвера и замочную скважину. И потому ближе к концу книги Принц Навахо и целитель Анасази, несмотря на заметную разницу в возрасте и высоте над уровнем моря (в нескольких сотнях лет и тысячах футов друг от друга) кочуют по континенту «как одно». Общей идеей здесь является не одновременность, но что-то навроде «движения на восток ради получения ценного опыта». Книга могла быть раз- и пере- собрана после перечисления всех этих более чем параллельных но менее чем идентичных случаев: и ни мы, ни я этого делать не хотим.
Приведу два списка цитат, иллюстрирующих то, что я имел в виду.
Кольты — само собой, револьверы. Механизм револьвера подразумевает поворот, как в геометрическом вращении, изучаемом Ларри Ширсоном. Это вращение — форма приумножения; кольт умножает или, вероятнее, является умножителем. В другом эпизоде с появлением кольта Джеймс Мэйн обнаруживает себя в его барабане, смотрящим наружу из отверстия. Вид напоминает червоточину дивы, так револьвер связывается с другим набором общей лексикой и событиями: ленточный червь и его путь, эхом разносящийся в одном из главных инструментов исследования у Грейс Кимбалл — диктофоне (и сколько там дорожек?); замочная скважина, сквозь которую Джеймс Мэйн шпионит за матерью и братом, однажды названная «червоточиной» (с. 196), что обосновывает сходство с барабаном кольта; кишечник (тоже «colon», ранее встречающееся в цитате как двоеточие (еще одно «colon»)) дивы, называемый также «ветровой трубой», протягивает нить к теме ветра и всем ее ответвлениям вроде «дыхания ветра», которое слушает Мэйн (с. 197), равно как и к теме пустоты (void), как в глаголе «опустошать [кишечник]» (to void), отсылающем нас обратно к Грейс Кимбалл и ее лечебным клизмам, где пустота также была часто встречающимся промежутком — необходимым к прохождению препятствием на пути познания…
Эту цепочку можно протягивать туда-обратно по всей книге, но мысль должна быть уже понятна: слова нельзя ограничить, отведя им роль имен конкретных вещей. Они определяют и другие вещи помимо тех, названиями которых являются; вещи же иногда притягивают имена, которые им не вполне подходят. В самом начале (с. 10) мы замечаем это ненормальное, но и не такое уж необычное положение дел в небольшом девайсе, с непостоянной частотой добавляющем свой звоночек в общий поток повествования: за словом следуют скобки, а в скобках написана альтернатива к нему: «… формируя другую точку зрения для будущего упоминания (читай: «пребывания»)…». (с. 10). Позже девайс в некотором смысле достигает апогея в заключении, полном сведений и игры слов: «…дюжина других вопросов относительно прохода того, что, как мы знали, находится в нас. Прохода? (читай: червоточины, читай: ветровой трубы, читай: камеры нулевой гравитации, читай: временнóй перегородки…)». (с. 184). Использование слов в «Женщинах и мужчинах» заставляет нас ощутить: за одними словами в ожидании кроются другие, и каждое из них может привести нас ко всем остальным словам.
Двойственную натуру слов разделяет и ими означаемое. Подобно персонажам, объекты, действия и последовательности, которые слова обозначают, склонны терять свои уникальные свойства, накладываясь друг на друга, сливаясь, хотя слияние их происходит не столько друг с другом, но, скорее, они подчиняются общей идее: так общее понятие «отверстия» объединяет в себе червоточину, барабан револьвера и замочную скважину. И потому ближе к концу книги Принц Навахо и целитель Анасази, несмотря на заметную разницу в возрасте и высоте над уровнем моря (в нескольких сотнях лет и тысячах футов друг от друга) кочуют по континенту «как одно». Общей идеей здесь является не одновременность, но что-то навроде «движения на восток ради получения ценного опыта». Книга могла быть раз- и пере- собрана после перечисления всех этих более чем параллельных но менее чем идентичных случаев: и ни мы, ни я этого делать не хотим.
Приведу два списка цитат, иллюстрирующих то, что я имел в виду.
1.
Необходимость уйти, но осознание того, что уйти можно и не двигаясь с места, просто будучи брошенным. (Маккенна о Фоли, с. 83)
…Кимбалл бросила мужа, хотя именно он был тем, кто ушёл: разве не похоже на то, как мать когда-то отослала своего сына прочь, оставив его с полным ощущением, будто это она ушла… (мать Джеймса Мэйна, с. 189)
[Сью — та, что просит называть её Сарой — бросила своего сына Ларри, а ведь уехал именно он.] (сс. 378-379)
Всё Время Вдали От Дома. (так сказано о Джеймсе Мэйне и одной из причин, почему его оставила жена, с. 1015)
2.
Нам не нужно было выходить из дома: вся необходимая техника была и в этой комнате, и ещё в той, где ребёнок делал домашнее задание, а кое-что было на экране, так что у нас, можно сказать, был двойной экран, если достаточно быстро перемещаться между комнатами. (Ларри Ширсон, с. 319)
…между двумя слабоосвещёнными верандами у него самого не было никакой другой родословной. (Джеймс Мэйн, бегая от родительского дома к дому бабушки и дедушки и обратно, с. 443)
Необходимость уйти, но осознание того, что уйти можно и не двигаясь с места, просто будучи брошенным. (Маккенна о Фоли, с. 83)
…Кимбалл бросила мужа, хотя именно он был тем, кто ушёл: разве не похоже на то, как мать когда-то отослала своего сына прочь, оставив его с полным ощущением, будто это она ушла… (мать Джеймса Мэйна, с. 189)
[Сью — та, что просит называть её Сарой — бросила своего сына Ларри, а ведь уехал именно он.] (сс. 378-379)
Всё Время Вдали От Дома. (так сказано о Джеймсе Мэйне и одной из причин, почему его оставила жена, с. 1015)
2.
Нам не нужно было выходить из дома: вся необходимая техника была и в этой комнате, и ещё в той, где ребёнок делал домашнее задание, а кое-что было на экране, так что у нас, можно сказать, был двойной экран, если достаточно быстро перемещаться между комнатами. (Ларри Ширсон, с. 319)
…между двумя слабоосвещёнными верандами у него самого не было никакой другой родословной. (Джеймс Мэйн, бегая от родительского дома к дому бабушки и дедушки и обратно, с. 443)
И (1), и (2) принимают и другие обличия. Однако иногда схождение элементов может произойти лишь единожды, производя исключительный эффект. К примеру, мы знаем: мать Джеймса Мэйна, судя по всему, совершила самоубийство, но никак не ожидаем, что его дочь скажет ему:
«Хорошо, совпадение удачное, но… Папочка — ты же всё знаешь — когда твоя бабушка покончила с собой — »
«Что!?»
«Что!?»
Он никогда об этом не упоминал, даже при нас. Нас проинформируют уже после 904-й страницы, и мы знаем — как и данная парочка, эти категорически разные мать и дочь (и мать) воссоединяются посредством самоубийств, — что множество наших предположений потерпели тихое крушение. И это еще ни в коем случае не все, что можно сказать по данной теме.
5
Вращение барабана револьвера привело нас к словам «дыхание», «ветер» и «пустота». Эти слова — внешне очевидные прозрачности, но совсем не прозрачные внешности. И если мы посмотрим на них, то можем познать очень важную часть происходящего в «Женщинах и мужчинах».
Когда нас выталкивает из червоточины или ветровой трубы в сцену, где отец Джеймса Мэйна встречает его мать, нам говорят: «но кто-то ведь точно дышит». (с. 19). И, помимо наших собственных вздохов, кто бы это мог быть?
Пять названий глав содержат слово «передышка»: начиная с «МЕЖДУ НАМИ: ПЕРЕДЫШКА ВНАЧАЛЕ», потом «МЕЖДУ ИСТОРИЯМИ: КОРОТКИЕ ПЕРЕДЫШКИ» к «МЕЖДУ НАМИ: ПЕРЕДЫШКА К КОНЦУ». Критики назвали сами эти главы «передышками», и, хотя это не неверно, у слова есть значения помимо того. (И в бóльшую часть времени оно не такое, как в выражении «сделать передышку».)
В случае первой главы-передышки, например, тот самый «кто-то же дышит» вскоре будет определен как «дыхатель Джим Мэйн», кто, будучи «едва ли способным наблюдать за событием, родился — вот и все» (с. 20) — и едва ли это сюрприз, поскольку встреча его родителей создала необходимые для события предпосылки. У этого открытия изначально два последствия. Оно меняет значение названия главы или, если точнее, расширяет его настолько, чтобы включить идею «Между нами, кем-то конкретным»; и даже на таком раннем этапе обретения опыта с «нами» (где какая-то часть «нас» все еще может предположительно отсылать к автору, существующему где-то еще), «между нами» обретает больше смысла вроде «среди нас» или «объединяя нас», а не «разделяя нас».
Предполагаемой связи скоро дадут имя: Джеймс Мэйн. Далее, выявление дыхателя сразу связывает дыхание с рождением, то есть, с нашей общей человеческой природой. («Birth» и «breath»: у слов даже есть общий собрат по этимологии в лице «brood» («вылупляться»), вроде как «мы, цыплята».)
Выброшенные из дивной темноты на свет истории Джеймса Мэйна, рождаемся ли мы вместе с ним? Возможно. В любом случае, книга начала свое существование с еще одного рождения: захватывающего момента, когда книга открывается, да, разделяя страницы. Первые слова описывают не только женщину, рожающую, но и нас, начинающих (и не начинающих) свой читательский путь: «В конечном счете она так и не поняла, что произошло или когда это началось. И, вероятно, не в таком состоянии ей стоило находиться…». (с. 3)
«Что такое есть в других, в чём есть другие?» (с. 614) — загадка, заданная диве Луизе и засевшая у нее в голове. Два ответа, что могли прийти на ум, раз уж она певица, о которой хорошо заботится ее любовник: музыка и член. Я-в-нас думало (это ли не еще один ответ?) о воздухе, которым мы дышим. Мы, все мы рождены дыхателями, и не только в книге (книга ли не еще один ответ?). И что же именно, вдобавок к тому, что мы в воздухе, которым дышим, пока он в нас, мы с ним делаем? Мы наполняем его звуком, формируя его в плач и слова — «дыхание разрезает жизнь на слова, а предложение — на значения». (с. 27). Так что язык также может быть разгадкой. «Предложение — на значение»: таким образом «дышать значит чувствовать, или, быть может, думать…» (с. 327), что-то близкое почти или вовсе всему человечеству мы наследуем в момент своего рождения. И этим продолжаем становиться:
Когда нас выталкивает из червоточины или ветровой трубы в сцену, где отец Джеймса Мэйна встречает его мать, нам говорят: «но кто-то ведь точно дышит». (с. 19). И, помимо наших собственных вздохов, кто бы это мог быть?
Пять названий глав содержат слово «передышка»: начиная с «МЕЖДУ НАМИ: ПЕРЕДЫШКА ВНАЧАЛЕ», потом «МЕЖДУ ИСТОРИЯМИ: КОРОТКИЕ ПЕРЕДЫШКИ» к «МЕЖДУ НАМИ: ПЕРЕДЫШКА К КОНЦУ». Критики назвали сами эти главы «передышками», и, хотя это не неверно, у слова есть значения помимо того. (И в бóльшую часть времени оно не такое, как в выражении «сделать передышку».)
В случае первой главы-передышки, например, тот самый «кто-то же дышит» вскоре будет определен как «дыхатель Джим Мэйн», кто, будучи «едва ли способным наблюдать за событием, родился — вот и все» (с. 20) — и едва ли это сюрприз, поскольку встреча его родителей создала необходимые для события предпосылки. У этого открытия изначально два последствия. Оно меняет значение названия главы или, если точнее, расширяет его настолько, чтобы включить идею «Между нами, кем-то конкретным»; и даже на таком раннем этапе обретения опыта с «нами» (где какая-то часть «нас» все еще может предположительно отсылать к автору, существующему где-то еще), «между нами» обретает больше смысла вроде «среди нас» или «объединяя нас», а не «разделяя нас».
Предполагаемой связи скоро дадут имя: Джеймс Мэйн. Далее, выявление дыхателя сразу связывает дыхание с рождением, то есть, с нашей общей человеческой природой. («Birth» и «breath»: у слов даже есть общий собрат по этимологии в лице «brood» («вылупляться»), вроде как «мы, цыплята».)
Выброшенные из дивной темноты на свет истории Джеймса Мэйна, рождаемся ли мы вместе с ним? Возможно. В любом случае, книга начала свое существование с еще одного рождения: захватывающего момента, когда книга открывается, да, разделяя страницы. Первые слова описывают не только женщину, рожающую, но и нас, начинающих (и не начинающих) свой читательский путь: «В конечном счете она так и не поняла, что произошло или когда это началось. И, вероятно, не в таком состоянии ей стоило находиться…». (с. 3)
«Что такое есть в других, в чём есть другие?» (с. 614) — загадка, заданная диве Луизе и засевшая у нее в голове. Два ответа, что могли прийти на ум, раз уж она певица, о которой хорошо заботится ее любовник: музыка и член. Я-в-нас думало (это ли не еще один ответ?) о воздухе, которым мы дышим. Мы, все мы рождены дыхателями, и не только в книге (книга ли не еще один ответ?). И что же именно, вдобавок к тому, что мы в воздухе, которым дышим, пока он в нас, мы с ним делаем? Мы наполняем его звуком, формируя его в плач и слова — «дыхание разрезает жизнь на слова, а предложение — на значения». (с. 27). Так что язык также может быть разгадкой. «Предложение — на значение»: таким образом «дышать значит чувствовать, или, быть может, думать…» (с. 327), что-то близкое почти или вовсе всему человечеству мы наследуем в момент своего рождения. И этим продолжаем становиться:
Знаешь, тебе бы не помешало уделить немного времени себе (—Устроить передышку?—) То, что доктор прописал…
Но (пере)дыхатели, они — или мы — уже не те, что раньше: некогда отчуждённый теперь дыхатель занимал собой всё пространство, словно друг в беде, которого приходится выслушивать неделями, пока кризис не минует: обосновавшись в пространстве, дыхатель стал человеком, будто воплотился сам в себя… (с. 663)
Но (пере)дыхатели, они — или мы — уже не те, что раньше: некогда отчуждённый теперь дыхатель занимал собой всё пространство, словно друг в беде, которого приходится выслушивать неделями, пока кризис не минует: обосновавшись в пространстве, дыхатель стал человеком, будто воплотился сам в себя… (с. 663)
Дыхание также может стать «дыханием ветра», иногда буквально, как в поразительном повторе концовки главы о Джеймсе Мэйне и его матери. Повтор происходит с таким интервалом, что мы и помним, и забыли изначальный текст пассажа:
Ветер и погода, как мы уже говорили, знакомое тайное прикрытие для высших сил, но также прикрытие сонного духа для матери, что ушла туда, где солёные волны набегали, щекоча, на песчаный берег, но которая, словно будущее отсутствие, где-то внутри стала ближе к своему отпрыску, создавая брешь. Сквозь эту брешь будущее всегда может вернуться назад, как не сделала она сама: помимо дыхания, уверенного и ровного, отступающего, отвергающего всё: день, ночь, человека, животное, известное и признанное. (с. 45)
И повтор:
Так погода и море стали знакомым тайным прикрытием для высших сил…
И сквозь эту брешь всегда будет возвращаться, как не сделала она сама: кроме дыхания ветра, уверенного и ровного, отступающего, отвергающего всё: день, ночь. Слышащий этот ветер, её давно потерянный сын Джим нашёл для него препятствия. (с. 197)
И сквозь эту брешь всегда будет возвращаться, как не сделала она сама: кроме дыхания ветра, уверенного и ровного, отступающего, отвергающего всё: день, ночь. Слышащий этот ветер, её давно потерянный сын Джим нашёл для него препятствия. (с. 197)
«Другими словами», ветер, исчезнувший из первого предложения, снова появляется в связи с «дыханием» в предпоследнем.
Ветер — дыхание погоды, преимущественно, но не всецело. Само слово вращается в кругах других ассоциаций к дыханию: дыхание у бегунов, ставшая легендой бесконечная трата воздуха сенатом, ветры в ветровой трубе дивы (возможно, частично ребяческое дополнение к представлению о дыхании из поговорки «С одной стороны вошло, с другой вышло»). Но, в основном, ветер относится к погоде. В этом отношении имеется кое-что на заметку на будущее. Ветра дуют не прямо, как однажды отметила мать Джима: «Она сказала, что ветер бы дул вперёд, ровно по прямой, если бы только планета не вращалась безостановочно…». (с. 577). Кроме всего прочего, «планета» не только заставляла ветер оборачиваться вокруг нее, но и чинила ему великое препятствие: «Земля… в конечном счёте, — Мэйн впервые видел — всегда была сдерживающим ветер рубежом…». (с. 827). Прикованный к Земле и скованный ею, ветер становится медиумом для чтения ее «сообщений».
Джеймс Мэйн рисует для своей жены Джой розу ветров — восьмиконечную звезду из компаса, ее линии своей длиной и толщиной показывают частоту и силу ветров. И объясняет: «Роза ветров показывает горизонтальное движение атмосферы. Теперь ты знаешь все, что знаю я». (с. 1014). Но не совсем: он еще знает, например, о подобному погодным фронтам передвижению целителя Анасази с запада на восток, о дублирующем путешествии в странствиях Маргарет и Принца Навахо и даже о своем возвращении в Нью-Йорк из Нью-Мексико. (А мы знаем, что Грейс Кимбалл также поехала на восток.) И он точно знает, раз уж он сам дал ему имя, что семейный дом в родном городке Мэйплвуде, Нью-Джерси, в его истории зовется Виндроу («Windrow») — наиболее одиночная роза ветров из всех. И как от «wind rose» (розы ветров) до «windrow» (букв. «ветрового ряда»), так и от «windrow» до «window»: как в T.W., или «trace window» (окно трассировки), имени появляющегося позже в книге персонажа, который может отслеживать определенный вид радиоактивности; и как в еще одном окне, на могиле, столь важной для семьи Мэйна, Т.В. улавливает излучения, хотя могила предположительно пуста…
«Ветер и погода, знакомое тайное прикрытие для высших сил…» Из цитаты ранее (с. 346) мы узнали, что формирующие погоду изолинии, проходящие по берегу, аналогичны тем путям, что проходят вызывающие воспоминания нейроны. В другом месте упоминаются «сообщения Земли, написанные конкретными движениями ураганного фронта и бездождевых облаков от горы к горе или прозрачность абортированного эмбриона». (с. 801). Отшельник-Изобретатель и целитель Анасази обсуждают «погоду присутствия и отсутствия, у которой не проводится никаких параллелей с разделением погоды на Земле и вне её, погоды из тела, погоды из практически ниоткуда, погоды отъезда и погоды прибытия…». (с. 685). Погода — медиум откровения со своими явлениями-масками и аналогиями для других явлений; медиум для исследования, как предполагает целитель Анасази в разговоре с посетителем: «Мы создаём свои погоды частично для наблюдения за ними, чтобы перед нами что-то было…». (с. 816). Погода снабжает нас «сутью» происходящего, и тогда мы начинаем что-то понимать: «Услышь всех нас, падающих в сторону горизонта. Это ветер, оборотная сторона препятствия, притягивает нас к нему. Но этот ветер — наш ветер, каковым было и препятствие, услышанное нами лишь в форме прелюдии ко всему, что лежит за». (с. 10). Через препятствие (чем бы оно ни было — может, это сама Земля), вперед к горизонту, ветер гонит нас по кривой познания:
Ветер — дыхание погоды, преимущественно, но не всецело. Само слово вращается в кругах других ассоциаций к дыханию: дыхание у бегунов, ставшая легендой бесконечная трата воздуха сенатом, ветры в ветровой трубе дивы (возможно, частично ребяческое дополнение к представлению о дыхании из поговорки «С одной стороны вошло, с другой вышло»). Но, в основном, ветер относится к погоде. В этом отношении имеется кое-что на заметку на будущее. Ветра дуют не прямо, как однажды отметила мать Джима: «Она сказала, что ветер бы дул вперёд, ровно по прямой, если бы только планета не вращалась безостановочно…». (с. 577). Кроме всего прочего, «планета» не только заставляла ветер оборачиваться вокруг нее, но и чинила ему великое препятствие: «Земля… в конечном счёте, — Мэйн впервые видел — всегда была сдерживающим ветер рубежом…». (с. 827). Прикованный к Земле и скованный ею, ветер становится медиумом для чтения ее «сообщений».
Джеймс Мэйн рисует для своей жены Джой розу ветров — восьмиконечную звезду из компаса, ее линии своей длиной и толщиной показывают частоту и силу ветров. И объясняет: «Роза ветров показывает горизонтальное движение атмосферы. Теперь ты знаешь все, что знаю я». (с. 1014). Но не совсем: он еще знает, например, о подобному погодным фронтам передвижению целителя Анасази с запада на восток, о дублирующем путешествии в странствиях Маргарет и Принца Навахо и даже о своем возвращении в Нью-Йорк из Нью-Мексико. (А мы знаем, что Грейс Кимбалл также поехала на восток.) И он точно знает, раз уж он сам дал ему имя, что семейный дом в родном городке Мэйплвуде, Нью-Джерси, в его истории зовется Виндроу («Windrow») — наиболее одиночная роза ветров из всех. И как от «wind rose» (розы ветров) до «windrow» (букв. «ветрового ряда»), так и от «windrow» до «window»: как в T.W., или «trace window» (окно трассировки), имени появляющегося позже в книге персонажа, который может отслеживать определенный вид радиоактивности; и как в еще одном окне, на могиле, столь важной для семьи Мэйна, Т.В. улавливает излучения, хотя могила предположительно пуста…
«Ветер и погода, знакомое тайное прикрытие для высших сил…» Из цитаты ранее (с. 346) мы узнали, что формирующие погоду изолинии, проходящие по берегу, аналогичны тем путям, что проходят вызывающие воспоминания нейроны. В другом месте упоминаются «сообщения Земли, написанные конкретными движениями ураганного фронта и бездождевых облаков от горы к горе или прозрачность абортированного эмбриона». (с. 801). Отшельник-Изобретатель и целитель Анасази обсуждают «погоду присутствия и отсутствия, у которой не проводится никаких параллелей с разделением погоды на Земле и вне её, погоды из тела, погоды из практически ниоткуда, погоды отъезда и погоды прибытия…». (с. 685). Погода — медиум откровения со своими явлениями-масками и аналогиями для других явлений; медиум для исследования, как предполагает целитель Анасази в разговоре с посетителем: «Мы создаём свои погоды частично для наблюдения за ними, чтобы перед нами что-то было…». (с. 816). Погода снабжает нас «сутью» происходящего, и тогда мы начинаем что-то понимать: «Услышь всех нас, падающих в сторону горизонта. Это ветер, оборотная сторона препятствия, притягивает нас к нему. Но этот ветер — наш ветер, каковым было и препятствие, услышанное нами лишь в форме прелюдии ко всему, что лежит за». (с. 10). Через препятствие (чем бы оно ни было — может, это сама Земля), вперед к горизонту, ветер гонит нас по кривой познания:
…ветер и погода, как мы уже говорили, знакомое тайное прикрытие для высших сил, но также прикрытие сонного духа для матери, что ушла туда, где солёные волны набегали, щекоча, на песчаный берег, но которая, словно будущее отсутствие, где-то внутри стала ближе к своему отпрыску, создавая брешь. Сквозь эту брешь будущее всегда может вернуться назад, как не сделала она сама: помимо дыхания, уверенного и ровного… Слышащий этот ветер, её давно потерянный сын Джим нашёл для него препятствия. (с. 43; с. 197)
Препятствия и брешь образуют единый погодный процесс сознательности и оживленности. Брешь чаще называют более свободным «пустота» (также «вакуум власти» или «мощный вакуумный пылесос», вроде «Без вакуума нет и власти…». [с. 25]). Так как брешь, пустота или вакуум — отсутствие, не содержащее ничего, попытки его определить в лучшем случае легкомысленны, как когда это пытается сделать Грейс Кимбалл:
Что ж, каждый знает о пустоте. … Она запускала руку в пустоту в поисках блокнота, чтобы записать: «Пустота — то самое нечто, предположительно описывающее ваше будущее» и «Пустота есть Божество, принимающее форму пространства и требующее от меня перемен, освобождая для них место». … «Пустота — телефонный звонок, не прекращающийся в моменте», и продолжается он потому, что она не настроила Переадресацию, которая и была «Пустота “На” линии, пока ты находишься “В”…». (с. 946)
Пустота позволяет появиться на свет чему-то, ранее не существующему, в этом смысле напоминая рождение или, скорее, процесс родов. О матери, за чьими родовыми муками мы наблюдаем в начале книги, мы узнаем следующее:
Боль в спине, в конце концов, вышла из неё, провалившись в пустоту: теперь уже и не вспомнить…
И она в пространстве в центре, которое всё ещё было незаполненной брешью: в какой бы мере она там ни находилась, она была лишь тем, что было в самом центре, и только на миг… (с. 3; с. 6)
И она в пространстве в центре, которое всё ещё было незаполненной брешью: в какой бы мере она там ни находилась, она была лишь тем, что было в самом центре, и только на миг… (с. 3; с. 6)
«Только на миг»: но этого времени достаточно, чтобы запомнить, если ей это надо. «Позже её побуждали всё вспомнить. Как если бы она могла». (с. 4). И несколько страниц спустя, когда появляемся «мы»: «Мы помним всё, что происходило… Уже помним всё, что так долго было с нами — у нас было время увидеть — но теперь кажется, будто мы ждали момента вспомнить. Кто мы такие, чтобы этого не сделать? Но дайте нам и позволение всё забыть». (сс. 8-9). Забывание имеет значение: в каком-то смысле это и есть брешь в нашей иллюзии знания, пустоте, что дает дорогу дыханию ветра (повторного) открытия, дабы произвести на свет то, что мы уже или всегда знали. Это что-то, что может произойти только сейчас, в абсолютном настоящем, где Грейс Кимбалл правит как богиня, хотя в следующем пассаже именно дочь Джеймса Мэйна, Флик, думает:
Будущее, в которое выскользнул её отец, действительно было похоже на нас: склон, статичный за исключением отбрасываемой им тени, которая и была им, вплоть до Сейчас, до Настоящего, на самом деле прошлого по отношению к будущему, в которое он ушёл, словно шок от воспоминаний, вызывавших желание вернуться к тому, что было пустотой и должно было быть создано снова — то есть, к настоящему. (с. 407)
Препятствия, что позволяют переизобретению произойти. Препятствия вроде того, что Джеймс Мэйн учинил собственному дыханию ветра само собой являются неотъемлемой частью пустоты:
…понимание: так как когда смотришь на историю и обнаруживаешь: Препятствия, к которым мы устремлены, по всей видимости, были сотворены Нами из того, что из противоположного угла выглядит как сама пустота, сквозь которую мы прошли, дабы достичь упомянутого Препятствия; в нём, в свою очередь, должно быть достаточно пустоты для прохождения.
Но не настолько, чтобы мы ничего не ощутили. (с. 1110)
Но не настолько, чтобы мы ничего не ощутили. (с. 1110)
Таким образом препятствия отсылают к (или принадлежат) погодам, создаваемым нами, «частично для наблюдения за ними, чтобы перед нами что-то было», такое же прозрачное как ветер. Ларри Ширсон сочиняет теорию на основе неправильно услышанной фразы, и «optical» превратилось в «obstacle», породив теорию геометрии препятствий. Ларри достаточно квалифицирован для создания подобного малапропизма4, ведь он живет в собственной бреши, созданной его матерью, Сью, когда она его оставила. В геометрии препятствий кратчайший путь — тот, что приводит тебя туда, куда ты намереваешься попасть: «Знак объезда, который перебрасывает на еще одну дорогу и настоящий путь исследователя, отклоняющегося от маршрута в случае необходимости, чтобы объехать по тому, который может в конце концов оказаться более верным». (с. 401)
Можем ли точнее рассказать о происходящем в промежутке? Пустота дает шанс вспомнить то, что мы уже знаем: пишем «вспомнить», но читаем как «узнать». Это объяснит, почему Джеймс Мэйн играет такую важную роль и появляется в качестве первого дыхателя. Он смотрит или по крайней мере говорит, что смотрит вперед в будущее как на прошлое — «словно тень, брошенная на еще не отчетливо зримое прошлое» проявляющееся отчетливей: «И вот он пытается сбежать от того далекого будущего, из которого он выпал, смотря на эти другие времена как на не совсем потерянные и видя их настолько хорошо, что они становятся реальными…». (с. 1053). По крайней мере так я читаю следующие строки о Луизе, чьему отцу угрожает режим Пиночета и чей любовник — агент Пиночета: «…прорва опыта, если мы позволим ему прийти и остаться: и дива Луиза годы спустя обнаруживает внутри себя след, оставленный божьей милостью, как опыт, что нужно передать, и снова — если она захочет, и, опять же, она не может ничего сказать… о том, как позволила себе научиться любить его даже во тьме ночей…». (с. 607). Позволять и учиться. Но как? Это нельзя просто решить.
Можем ли точнее рассказать о происходящем в промежутке? Пустота дает шанс вспомнить то, что мы уже знаем: пишем «вспомнить», но читаем как «узнать». Это объяснит, почему Джеймс Мэйн играет такую важную роль и появляется в качестве первого дыхателя. Он смотрит или по крайней мере говорит, что смотрит вперед в будущее как на прошлое — «словно тень, брошенная на еще не отчетливо зримое прошлое» проявляющееся отчетливей: «И вот он пытается сбежать от того далекого будущего, из которого он выпал, смотря на эти другие времена как на не совсем потерянные и видя их настолько хорошо, что они становятся реальными…». (с. 1053). По крайней мере так я читаю следующие строки о Луизе, чьему отцу угрожает режим Пиночета и чей любовник — агент Пиночета: «…прорва опыта, если мы позволим ему прийти и остаться: и дива Луиза годы спустя обнаруживает внутри себя след, оставленный божьей милостью, как опыт, что нужно передать, и снова — если она захочет, и, опять же, она не может ничего сказать… о том, как позволила себе научиться любить его даже во тьме ночей…». (с. 607). Позволять и учиться. Но как? Это нельзя просто решить.
Должны ли мы противостоять искушению судить?
Да, но ещё больше — искушению потерять рассудок.
И да, наши телесные сущности будут петь друг другу, если только мы им позволим. (с. 421)
Да, но ещё больше — искушению потерять рассудок.
И да, наши телесные сущности будут петь друг другу, если только мы им позволим. (с. 421)
«Телесные сущности» — не мы. Рассмотрим уже приведенный некогда отрывок:
…воспоминание о том, чью вину система жизнеобеспечения (багаж) Джима может подпитывать без его ведома. Мы и кратные нам всматривались в свои прошлые перерождения, в которых так нуждались, к которым так стремились и, наконец, обрели; но как только переносились в них, мы, некоторые из нас, частями, ветвями чувствовали ток крови, искры подлинных ощущений. (c. 435-36)
Наши телесные сущности — наши «общности», не мы, но медиумы для «нашести». Чем мы «являемся», так это «светом, страстьескованным помимо им же придуманных препятствий: да, в чудной пустоте нашего вероятного ума, совоподобно возвещающего в один весомый день, что мы не знаем, чем свет был, однако нам была обещана сила, мы думаем: она была дана, дабы в хорошие дни мы полагали, будто мы и есть свет, должны им быть». (с. 13)
Точнее было бы сказать, что «мы», которые свет — та часть нас, что представляет ангельское присутствие. Мы также можем распознавать в «преломляющих свет медиумах никого иного как нас самих» (с. 39). Так что мы и свет, и преломление, возможно, через его препятствия — препятствия, которые мы знаем как необходимость для осознания и появления.
Когда свет встречает препятствие на своем пути, он отбрасывает тень. И мы тоже, и в особенности дружественный нам дыхатель Джим Мэйн в часто-вызываемой-в-памяти сцене из позднего детства на пляже в Нью-Джерси, где он нависает над своим (наполовину)родным братом Брэдом:
Точнее было бы сказать, что «мы», которые свет — та часть нас, что представляет ангельское присутствие. Мы также можем распознавать в «преломляющих свет медиумах никого иного как нас самих» (с. 39). Так что мы и свет, и преломление, возможно, через его препятствия — препятствия, которые мы знаем как необходимость для осознания и появления.
Когда свет встречает препятствие на своем пути, он отбрасывает тень. И мы тоже, и в особенности дружественный нам дыхатель Джим Мэйн в часто-вызываемой-в-памяти сцене из позднего детства на пляже в Нью-Джерси, где он нависает над своим (наполовину)родным братом Брэдом:
И когда его брат, распростёртый, лежал ничком, Джим навис над ним, и тень или человеческий контур полностью совместилась с очертаниями Брэда, не касаясь песка. Прежде чем возмущенный голос Сары прорезал ткань его ощущения: «Не тронь его!» — воздух прорезал её крик — Джим к тому моменту уже провалился в песок, и тогда закричал Брэд. (сс. 394-95)
И вот еще одно окно рядом с Виндроу — теневое окно, открывающее суть Брэда смущенному и возмущенному Джиму Мэйну — свет над ним, если не внутри него.
Дыхание; ветер; пустота (и препятствие, и свет…): часть происходящего, не символы, не метафоры, может, метонимии, но вряд ли мы можем сказать, к чему. Агенты: секретные агенты все время изменяющие личность, как ужасный Рэй Санти Сью Спенс. И если я, как мне известно, не разъяснил, кто они такие, так это только оттого, что они слишком сильно заняты всем подряд, чтобы остановиться и позировать для четкого портрета. Нельзя сделать фотографию постоянно видоизменяющихся вероятностей: ни одна из них не повторяется в том же виде дважды, особенно в Виндроу.
Временами свет по воле Бога даже становится звуком. Целая семистраничная глава («неизвестный звук») посвящена изучению того, как подобное может произойти — что вы слышите из включенного телевизора, если звук был выкручен на минимум?
И назревает вопрос: как эти вещи — блаженные личности, ангелы, да и даже «мы» — как это все претворяется в жизнь на бумаге? И как органам дыхания, погоды и света удается действовать?
Дыхание; ветер; пустота (и препятствие, и свет…): часть происходящего, не символы, не метафоры, может, метонимии, но вряд ли мы можем сказать, к чему. Агенты: секретные агенты все время изменяющие личность, как ужасный Рэй Санти Сью Спенс. И если я, как мне известно, не разъяснил, кто они такие, так это только оттого, что они слишком сильно заняты всем подряд, чтобы остановиться и позировать для четкого портрета. Нельзя сделать фотографию постоянно видоизменяющихся вероятностей: ни одна из них не повторяется в том же виде дважды, особенно в Виндроу.
Временами свет по воле Бога даже становится звуком. Целая семистраничная глава («неизвестный звук») посвящена изучению того, как подобное может произойти — что вы слышите из включенного телевизора, если звук был выкручен на минимум?
И назревает вопрос: как эти вещи — блаженные личности, ангелы, да и даже «мы» — как это все претворяется в жизнь на бумаге? И как органам дыхания, погоды и света удается действовать?
6
Другими словами, если «Женщины и мужчины» — роман, то как же работает нарратив? Важно продолжать постоянно задавать этот вопрос о книге: в некотором смысле кроме нарратива нет ничего, на что следует обращать внимание: то есть, все, лежащее вне контекста повествования, незамедлительно распадается. К сожалению, процесс повествования не менее обезображен описанием; но я не вижу способа избежать этого, если хочу объяснить, что все, сказанное до и после — не абстрактное мечтание со стороны автора, но нечто ощутимо существующее в главах и предложениях. Несколько утешает то, что анализ деятельности повествования представляет собой весьма безнадежное занятие и удовольствие читателей едва ли будет перебито написанным в этом эссе. Гибкость, разнообразие и темп прозы; ее прямота и эффективность —
Девушка то и дело бросает беспокойные взгляды, чтобы стало понятно: быть беде. Он же не слишком умён: смотрит вокруг без тени мысли. Он её и не замечал, пока их взгляды, направленные в противоположные стороны, вдруг не пересеклись и она не стала единым целым с блокнотом, который товарищ Мэйна захватил для одного из студентов. Но кое-что он всё же упустил.
И вот, спустя несколько часов, он поражён видом прокатной машины, стоящей снаружи кабака: она словно не из этих мест. Всё потому, что он говорил с умной молодой девушкой, которая ему нравится: она протестовала против слова «девушка», хотя он и сказал, что был бы рад, если бы его называли парнем, чёрт подери; тогда она добавила: «ты ведь белый».
В машине они обсуждали тепловой щит и парасоль: отсутствие сопротивления в космосе — отсутствие кислорода — солнечные батареи, как будто цветной телевизор, — никто из них не мог этого объяснить.
Теперь он внимает голосу девушки, а она — своему собственному: «Думаешь, они установят новый тепловой щит?»… (с. 64)
И вот, спустя несколько часов, он поражён видом прокатной машины, стоящей снаружи кабака: она словно не из этих мест. Всё потому, что он говорил с умной молодой девушкой, которая ему нравится: она протестовала против слова «девушка», хотя он и сказал, что был бы рад, если бы его называли парнем, чёрт подери; тогда она добавила: «ты ведь белый».
В машине они обсуждали тепловой щит и парасоль: отсутствие сопротивления в космосе — отсутствие кислорода — солнечные батареи, как будто цветной телевизор, — никто из них не мог этого объяснить.
Теперь он внимает голосу девушки, а она — своему собственному: «Думаешь, они установят новый тепловой щит?»… (с. 64)
и, напоследок, угадываемый фактор импровизации, и того, как автор верен своему намерению придерживаться «сути» и знать, что правильные слова и вещи появятся сами по себе под его пером, возможно, даже с окказиональной рифмой, но без удобной причины для теста с лакмусовой бумажкой — всё это обрекает любое стилистическое исследование на фальсификацию автоматическую и удалённую на безопасное расстояние от объекта.
Однако нужно ещё кое-что прояснить. Во-первых, весь наш путь длиной в дюжину сотен страниц усыпан крохотными бриллиантами. Вот несколько из них:
Однако нужно ещё кое-что прояснить. Во-первых, весь наш путь длиной в дюжину сотен страниц усыпан крохотными бриллиантами. Вот несколько из них:
…арахисово-уксусный запах лошадиного пота… (с. 21)
…гладкие, мутные устрицы в раковинах… (с. 65)
…[её мать за ежедневной уборкой пыли] словно любитель антиквариата, который никогда ничего не продаст… (с. 113)
…Тянущаяся самыми кончиками пальцев, чтобы коснуться замшевой кожи его мошонки, ощупать которую куда легче, чем всё неизвестное, плавающее внутри… (с. 357)
…чёрная изогнутая крышка рояля размером с Бразилию… (с. 357)
[В поезде:] … Я услышал нечто похожее на кошачий вопль вдалеке, но на поверку оказавшееся застёжкой-молнией и, к тому же, совсем рядом. (с. 681)
Побег возможен даже тогда, когда вы думаете, что свободны… (с. 836)
…они заставляли полоски картофельной кожуры сворачиваться в аккуратные завитки, устремленные прочь от влажной мякоти, белой, как у груши… (с. 901)
…шелест тёмного танцевального паркета… (с. 917)
…прогулки с маленькими детьми (они всегда знают, как найти твою ладонь, даже не взглянув)… (с. 1000)
«Я думаю о тебе всё время, даже когда ты рядом», — сказала она. (с. 1056)
Она говорит, что будущего ждать слишком долго. А о простых рабочих забывают каждый день. (с. 1126)
…гладкие, мутные устрицы в раковинах… (с. 65)
…[её мать за ежедневной уборкой пыли] словно любитель антиквариата, который никогда ничего не продаст… (с. 113)
…Тянущаяся самыми кончиками пальцев, чтобы коснуться замшевой кожи его мошонки, ощупать которую куда легче, чем всё неизвестное, плавающее внутри… (с. 357)
…чёрная изогнутая крышка рояля размером с Бразилию… (с. 357)
[В поезде:] … Я услышал нечто похожее на кошачий вопль вдалеке, но на поверку оказавшееся застёжкой-молнией и, к тому же, совсем рядом. (с. 681)
Побег возможен даже тогда, когда вы думаете, что свободны… (с. 836)
…они заставляли полоски картофельной кожуры сворачиваться в аккуратные завитки, устремленные прочь от влажной мякоти, белой, как у груши… (с. 901)
…шелест тёмного танцевального паркета… (с. 917)
…прогулки с маленькими детьми (они всегда знают, как найти твою ладонь, даже не взглянув)… (с. 1000)
«Я думаю о тебе всё время, даже когда ты рядом», — сказала она. (с. 1056)
Она говорит, что будущего ждать слишком долго. А о простых рабочих забывают каждый день. (с. 1126)
Но мы одарены и драгоценностями покрупнее — главами вроде первой («разделение неизвестного труда»), о матери в родах, и четвертой с конца («новости»), о мужчине, узнающем, что он скоро умрет, и еще множеством разных попутно встречающихся моментов из нескольких жизней (ограбление, урок езды на велосипеде), все рассказанные с мастерством, которое уже можно назвать классическим, ибо оно настолько эффективно, что мы забываем помнить о нем.
Указанные главы принадлежат к одной из трех серий. Первая группа из тринадцати (в общем 169 страниц) не устанавливает никакой преемственности между частями, являющимися отдельными единицами, посвященными второстепенным персонажам романа, но «История Гордона» включает Джеймса Мэйна, а протагониста главы «новости» мы не видели раньше и не увидим после. Вторая серия глав (502 страницы) рассказывает истории основных персонажей и всех в связи с ними: шесть сосредоточены на Джеймсе Мэйне, две — на Грейс Кимбалл, три — на Джимми Бэнксе, одна — на Маккенне (беженце из Чили), еще одна — на Ларри Ширсоне; последнюю в группе, но предпоследнюю по порядку в книге делят между собой Ларри и небезызвестный Спенс5. В конце концов, есть и главы-передышки, всего их пять (426 страниц): они, конечно же, рассказывают «нашу» историю, где «мы» включает в себя не только тех, кем мы думаем, что являемся, но и любого персонажа, чье присутствие в нашем обществе было бы приемлемо. (Длинная глава [в 113 страниц], адресованная Джеймсу Мэйну заключенным Фоли, принадлежит не к одной группе, а, скорее, ко всем трем сразу: в ней рассказывается его история, мы узнаем многое о главных героях, а Фоли как изобретатель дикой и мудрой теории о «бесконечной общности сознаний» — не исключение и сам по себе все и собственный дыхатель.)
У каждой серии глав свои временные и пространственные рамки. Отдельные истории из первой группы происходят в «стандартном современном вымышленном времени»: они следуют друг за другом и придерживаются ограниченного и четко заданного места и времени (зачастую это несколько часов). Истории из второй группы начинаются в и возвращаются к определенному времени и месту, разбросанные далеко меж собой. Единственные границы в главах-передышках — те же самые, что и в книге в целом: века с XIX по XXI, дистанция от Чили до Китая. Куда важнее то, что весьма отдаленные друг от друга времена и места упоминаются в рамках одного абзаца или даже предложения, и это максимум одновременности, которого можно достичь, не разрушая синтаксическую связность.
И так как главы-передышки беспрестанно взывают к общим рамкам книги, то именно они предоставляют контекст, в котором мы читаем об остальных. После первой главы-передышки, идущей сразу после короткой «разделение неизвестного труда», более разумные хронологии глав историй становятся частью полноты, с которой она нас столкнула. Удобоваримая хронология появляется сразу после, в ограниченном, частичном режиме, без каких бы то ни было привилегий повествования, и ее релевантность зависит от глав-передышек. Иными словами: главы-передышки устанавливают, что единственная хронология, имеющая значение — «наша» хронология (и давайте на секунду примем, пусть это и неточно, что «мы» = мы, читатели), а остальные главы воспринимаются нами как искусственно созданные и абстрактные аспекты более глобального переживания. Это в ретроспективе становится правдой даже в случае первой главы, захватывающей и всецело прекрасной картины рождения. Мы тронуты, но не из-за конкретности того, кто-где-когда. Мы не знаем, кто, где и когда, и, как только погружаемся в первую главу-передышку, нам уже все равно. Первая глава производит на нас и куда более долгосрочный эффект. Мы пережили опыт рождения, это открывает нам путь (через червоточину, снова!) к псевдорождению нас самих и, главным образом, к рождению Джеймса Мэйна, не столько историческому факту появления на свет, но воплощению-в-реальности в роли нашего первого дыхателя.
Эта маловероятная и нелогичная секвенция на самом деле происходит внутри нашего осознания читаемого, когда мы переходим от первой главы ко второй, от знакомого последовательного вымысла со всеми его ожиданиями к чему-то абсолютно непредвиденному: универсальному, нелинейному коллажу более или менее фрагментарных и озадачивающих пассажей относительно ангелов и прочих тем, поначалу не имеющих никакого смысла, хотя и представленных нам с надеждой и осторожностью. (Как только мы встречаем узнаваемого человека из плоти и крови, коим является дива Луиза, то забираемся по ее ноге прямо внутрь нее самой — отсюда вскоре и прозрение Джеймса Мэйна.) Переход от знакомого и определенного к непостижимому и необъятному производит, какими бы умными мы ни хотели показаться, неизбежное замешательство — читай: брешь, читай: пустоту — и через эту брешь «дыхание ветра» может хоть с какой-то вероятностью проникнуть. Легче было сказать, что перемена от известного к неизвестному шокирует нас, избавляя от первоначальных ожиданий, оставляя наше сознание открытым для незнакомого; но нужно принять и то, что структура и текстура книги очевидно представляет собой сами органы, которые везде описывает.
Если менее грандиозно: переход между двумя первыми главами, можно сказать, достигает двух целей. Определяет хронологию читателя как непоследовательную и помещает эту хронологию в контекст того, что я буду называть одновременностью. Одновременность не только такая, как в «42-й параллели» Дос Пассоса, где события происходят одновременно в разных местах, но и как слияние событий, происходящих в разных местах в разное время. Место для их одновременности — страница книги, являющаяся и местом нашего осознания.
Этот эффект вызван не только сопоставлением, но и различными методами смещения. Они и создают разного рода «бреши», сквозь которые мы подглядываем и подслушиваем в неистовом стремлении выяснить, что же происходит. Очевидно важную информацию скрывают от нас, как в случае с личностью матери из первой главы. В главе «Шип Рок» проходит шесть страниц прежде, чем мы узнаем: основной «он» в этой истории — Джеймс Мэйн. Когда Грейс Кимбалл приходит в офис к Марву (с. 115), нам во всех подробностях показывают небывалую злость Марва, но объяснение дается позже. ( с. 126). Последствия «ренты», история детей, обучаемых езде на велосипеде в Центральном Парке, рассказана мимоходом лишь сотню страниц спустя: «такие банальности вроде молодой черной актрисы, с которой в парке флиртует мужчина постарше, пытающийся научить внучку ездить на велосипеде» (894). События и персонажи, молча ожидаемые и вспоминаемые. Задолго до появления Джимми Бэнкса (464) сделаны отсылки к посыльным, курьерской службе и проблеме знания того, какая половина дверей метро откроется, и экспертность Джимми в этом деле неоспорима. (с. 346; с. 371; с. 373). На странице 417 мы наконец-то узнаем, что роженицу из первой главы зовут Сью (или, по крайней мере, мы думаем, что узнали — см. примечание 2).
По мере усиления эффекта одновременности эти методы перемещения разрушают наши причинно-следственные ожидания и заменяют их тем, что в тексте часто названо «вспоминанием того, что мы уже знаем». К примеру, мы не знаем, что познакомимся с Джимми Бэнксом, а потому предваряющие его появление отсылки к курьерской службе не имеют для нас никакого особого значения. Но когда мы встречаем его, мы «вспоминаем» про них, но только согласно не дающему отражения «инстинкту», который ощущается так, будто вспоминаемое нами и есть Джимми Бэнкс. Столкновение с необъясненным материалом создает неопределенность или брешь в нашем понимании того, чье восполнение переживается не как объяснение, но как повторное открытие уже знакомого. Мы «всё вспоминаем. Как если бы [мы] могли». Такова «пустота», вписанная в текст книги в качестве органа исследования, как и заявлено.
Другие методы перемещения функционируют на уровне просодии: повторения фраз или предложений как на страницах 43 и 197 (и еще на страницах 994 и 1042); средства вроде начинания каждого абзаца главы «микро-вызволенный фон специально отправленный по воздуху» с выражения «он отстранился» (с парой вариаций); растягивание предложений на целые страницы, дабы в один синтаксический вдох вложить разных людей, места и времена (как, например, на страницах 792-794); абзацы, которые могут, например, идти вразрез подобным длинным предложениям, чтобы выделить определенный момент (например, на стр. 23) или негласно обратить на что-то внимание:
Указанные главы принадлежат к одной из трех серий. Первая группа из тринадцати (в общем 169 страниц) не устанавливает никакой преемственности между частями, являющимися отдельными единицами, посвященными второстепенным персонажам романа, но «История Гордона» включает Джеймса Мэйна, а протагониста главы «новости» мы не видели раньше и не увидим после. Вторая серия глав (502 страницы) рассказывает истории основных персонажей и всех в связи с ними: шесть сосредоточены на Джеймсе Мэйне, две — на Грейс Кимбалл, три — на Джимми Бэнксе, одна — на Маккенне (беженце из Чили), еще одна — на Ларри Ширсоне; последнюю в группе, но предпоследнюю по порядку в книге делят между собой Ларри и небезызвестный Спенс5. В конце концов, есть и главы-передышки, всего их пять (426 страниц): они, конечно же, рассказывают «нашу» историю, где «мы» включает в себя не только тех, кем мы думаем, что являемся, но и любого персонажа, чье присутствие в нашем обществе было бы приемлемо. (Длинная глава [в 113 страниц], адресованная Джеймсу Мэйну заключенным Фоли, принадлежит не к одной группе, а, скорее, ко всем трем сразу: в ней рассказывается его история, мы узнаем многое о главных героях, а Фоли как изобретатель дикой и мудрой теории о «бесконечной общности сознаний» — не исключение и сам по себе все и собственный дыхатель.)
У каждой серии глав свои временные и пространственные рамки. Отдельные истории из первой группы происходят в «стандартном современном вымышленном времени»: они следуют друг за другом и придерживаются ограниченного и четко заданного места и времени (зачастую это несколько часов). Истории из второй группы начинаются в и возвращаются к определенному времени и месту, разбросанные далеко меж собой. Единственные границы в главах-передышках — те же самые, что и в книге в целом: века с XIX по XXI, дистанция от Чили до Китая. Куда важнее то, что весьма отдаленные друг от друга времена и места упоминаются в рамках одного абзаца или даже предложения, и это максимум одновременности, которого можно достичь, не разрушая синтаксическую связность.
И так как главы-передышки беспрестанно взывают к общим рамкам книги, то именно они предоставляют контекст, в котором мы читаем об остальных. После первой главы-передышки, идущей сразу после короткой «разделение неизвестного труда», более разумные хронологии глав историй становятся частью полноты, с которой она нас столкнула. Удобоваримая хронология появляется сразу после, в ограниченном, частичном режиме, без каких бы то ни было привилегий повествования, и ее релевантность зависит от глав-передышек. Иными словами: главы-передышки устанавливают, что единственная хронология, имеющая значение — «наша» хронология (и давайте на секунду примем, пусть это и неточно, что «мы» = мы, читатели), а остальные главы воспринимаются нами как искусственно созданные и абстрактные аспекты более глобального переживания. Это в ретроспективе становится правдой даже в случае первой главы, захватывающей и всецело прекрасной картины рождения. Мы тронуты, но не из-за конкретности того, кто-где-когда. Мы не знаем, кто, где и когда, и, как только погружаемся в первую главу-передышку, нам уже все равно. Первая глава производит на нас и куда более долгосрочный эффект. Мы пережили опыт рождения, это открывает нам путь (через червоточину, снова!) к псевдорождению нас самих и, главным образом, к рождению Джеймса Мэйна, не столько историческому факту появления на свет, но воплощению-в-реальности в роли нашего первого дыхателя.
Эта маловероятная и нелогичная секвенция на самом деле происходит внутри нашего осознания читаемого, когда мы переходим от первой главы ко второй, от знакомого последовательного вымысла со всеми его ожиданиями к чему-то абсолютно непредвиденному: универсальному, нелинейному коллажу более или менее фрагментарных и озадачивающих пассажей относительно ангелов и прочих тем, поначалу не имеющих никакого смысла, хотя и представленных нам с надеждой и осторожностью. (Как только мы встречаем узнаваемого человека из плоти и крови, коим является дива Луиза, то забираемся по ее ноге прямо внутрь нее самой — отсюда вскоре и прозрение Джеймса Мэйна.) Переход от знакомого и определенного к непостижимому и необъятному производит, какими бы умными мы ни хотели показаться, неизбежное замешательство — читай: брешь, читай: пустоту — и через эту брешь «дыхание ветра» может хоть с какой-то вероятностью проникнуть. Легче было сказать, что перемена от известного к неизвестному шокирует нас, избавляя от первоначальных ожиданий, оставляя наше сознание открытым для незнакомого; но нужно принять и то, что структура и текстура книги очевидно представляет собой сами органы, которые везде описывает.
Если менее грандиозно: переход между двумя первыми главами, можно сказать, достигает двух целей. Определяет хронологию читателя как непоследовательную и помещает эту хронологию в контекст того, что я буду называть одновременностью. Одновременность не только такая, как в «42-й параллели» Дос Пассоса, где события происходят одновременно в разных местах, но и как слияние событий, происходящих в разных местах в разное время. Место для их одновременности — страница книги, являющаяся и местом нашего осознания.
Этот эффект вызван не только сопоставлением, но и различными методами смещения. Они и создают разного рода «бреши», сквозь которые мы подглядываем и подслушиваем в неистовом стремлении выяснить, что же происходит. Очевидно важную информацию скрывают от нас, как в случае с личностью матери из первой главы. В главе «Шип Рок» проходит шесть страниц прежде, чем мы узнаем: основной «он» в этой истории — Джеймс Мэйн. Когда Грейс Кимбалл приходит в офис к Марву (с. 115), нам во всех подробностях показывают небывалую злость Марва, но объяснение дается позже. ( с. 126). Последствия «ренты», история детей, обучаемых езде на велосипеде в Центральном Парке, рассказана мимоходом лишь сотню страниц спустя: «такие банальности вроде молодой черной актрисы, с которой в парке флиртует мужчина постарше, пытающийся научить внучку ездить на велосипеде» (894). События и персонажи, молча ожидаемые и вспоминаемые. Задолго до появления Джимми Бэнкса (464) сделаны отсылки к посыльным, курьерской службе и проблеме знания того, какая половина дверей метро откроется, и экспертность Джимми в этом деле неоспорима. (с. 346; с. 371; с. 373). На странице 417 мы наконец-то узнаем, что роженицу из первой главы зовут Сью (или, по крайней мере, мы думаем, что узнали — см. примечание 2).
По мере усиления эффекта одновременности эти методы перемещения разрушают наши причинно-следственные ожидания и заменяют их тем, что в тексте часто названо «вспоминанием того, что мы уже знаем». К примеру, мы не знаем, что познакомимся с Джимми Бэнксом, а потому предваряющие его появление отсылки к курьерской службе не имеют для нас никакого особого значения. Но когда мы встречаем его, мы «вспоминаем» про них, но только согласно не дающему отражения «инстинкту», который ощущается так, будто вспоминаемое нами и есть Джимми Бэнкс. Столкновение с необъясненным материалом создает неопределенность или брешь в нашем понимании того, чье восполнение переживается не как объяснение, но как повторное открытие уже знакомого. Мы «всё вспоминаем. Как если бы [мы] могли». Такова «пустота», вписанная в текст книги в качестве органа исследования, как и заявлено.
Другие методы перемещения функционируют на уровне просодии: повторения фраз или предложений как на страницах 43 и 197 (и еще на страницах 994 и 1042); средства вроде начинания каждого абзаца главы «микро-вызволенный фон специально отправленный по воздуху» с выражения «он отстранился» (с парой вариаций); растягивание предложений на целые страницы, дабы в один синтаксический вдох вложить разных людей, места и времена (как, например, на страницах 792-794); абзацы, которые могут, например, идти вразрез подобным длинным предложениям, чтобы выделить определенный момент (например, на стр. 23) или негласно обратить на что-то внимание:
Ты не слишком много говоришь. Постарайся со мной не спорить, Джини. «Я постараюсь», — сказала она — «но эта война уже проиграна». «Но ведь ты же такая чертовски умная», — перебил он её, пока она отнекивалась: «Некоторых вещей я не знаю; например, про “Визу в Китай”»…
Говоришь ты телеграфически.
Мне бы быть поосторожнее с присваиванием ярлыков: будто хожу по тонкому льду.
Это служебная дорога, город далеко отсюда.
Когда ты впервые понял, что это всё был не сон? (c. 1153)
Говоришь ты телеграфически.
Мне бы быть поосторожнее с присваиванием ярлыков: будто хожу по тонкому льду.
Это служебная дорога, город далеко отсюда.
Когда ты впервые понял, что это всё был не сон? (c. 1153)
— расположение текста показывает, что некоторые высказывания общие, а часть речи — обмен.
Эти процедуры и многие прочие похожие и непохожие продолжают вытаскивать нас из ожидания линейного, репрезентативного вымысла и напоминать нам о том, что единственно верная последовательность, единственно верная хронология романа принадлежит нам, переворачивающим страницы.
К чему может относиться наша хронология? Что есть эта целостность, объемлющая все другие? Для меня ответ таков: не действия и события формируют тему книги, а процесс, благодаря которому они обнаружены и узнаны. И этот процесс — настоящие сюжет романа, и в нем мы единое целое с основными персонажами: переживаем реальность с ними и как они. В некоторым смысле мы сами по себе привилегированные персонажи. Наша привилегия не в способности смотреть на вещи с высоты птичьего полета вместе с рассказчиком или автором, но в нахождении в реальности вместе с другими, оставаясь в ней, пока каждый из них выясняет, что может быть познано в его или ее личном случае.
(С другими персонажами мы не только принимаем участие в коллективных мероприятиях ангелов: наша менее ангельская натура слышит голос в дознавателе, продолжающем прерывать повествование своим «прочитай то, прочитай это» и в один момент также прерванном:
Эти процедуры и многие прочие похожие и непохожие продолжают вытаскивать нас из ожидания линейного, репрезентативного вымысла и напоминать нам о том, что единственно верная последовательность, единственно верная хронология романа принадлежит нам, переворачивающим страницы.
К чему может относиться наша хронология? Что есть эта целостность, объемлющая все другие? Для меня ответ таков: не действия и события формируют тему книги, а процесс, благодаря которому они обнаружены и узнаны. И этот процесс — настоящие сюжет романа, и в нем мы единое целое с основными персонажами: переживаем реальность с ними и как они. В некоторым смысле мы сами по себе привилегированные персонажи. Наша привилегия не в способности смотреть на вещи с высоты птичьего полета вместе с рассказчиком или автором, но в нахождении в реальности вместе с другими, оставаясь в ней, пока каждый из них выясняет, что может быть познано в его или ее личном случае.
(С другими персонажами мы не только принимаем участие в коллективных мероприятиях ангелов: наша менее ангельская натура слышит голос в дознавателе, продолжающем прерывать повествование своим «прочитай то, прочитай это» и в один момент также прерванном:
И ты слышишь этот зов —
— читай: вопль — мы призываем, а не зовём, как если бы он, этот Дознаватель, не был одним из нас —
— что ж, пусть будет вопль… — он уступил… [с. 587])
— читай: вопль — мы призываем, а не зовём, как если бы он, этот Дознаватель, не был одним из нас —
— что ж, пусть будет вопль… — он уступил… [с. 587])
Вот несколько очевидных примеров того, что я имею в виду. Мы узнаем о персонажах по мере того, как о них узнают другие персонажи. Мы вовлекаемся в здесь-и-сейчас Джеймса Мэйна (Флорида и Нью-Йорк, 1977) через его подругу Джин после того, как она познакомилась с ним на Мысе Кеннеди. Мы учимся любить или хотя бы принимать чилийского агента де Талька благодаря его связи с дивой Луизой. В случае с Грейс Кимбалл другой человек, представивший нам ее, она сама. Исключение? Предпочитаю думать, что это, скорее, демонстрация того, по крайней мере если ты богиня, в чем суть мастурбации.
Глава (сс. 100-147), в которой Грейс открывает нам саму себя от нашего лица, иллюстрирует процесс откровения и метод, которым нас, читателей, делают интимной его частью — «просодически», в смысле физически. Глава начинается так: «Оно пришло за ней в конце дня и застало её в одиночестве на огромном нетронутом ковре зеркальной Телесной Комнаты, и это была не история её жизни…» (с. 100), и мы не выясним, что такое «оно», еще двенадцать страниц: «Что бы ни было на кону, оно не заканчивалось. Но значение того дня Грейс, которое дошло лишь до неё одной, пока она обрушивалась сама на себя…» (с. 112), и мы не узнаем значения ее дня пока, на пике оргазма, ее глава кончится. Но в промежутке это «оно» витает над нашим сознанием, пока мы сопровождаем Грейс в ее возрастающем возбуждении и горении подожженного фитиля ее памяти сквозь прошлое, которое вот-вот достигнет кульминации в настоящий момент открытия. Глава, может, не формирует единое дыхание (однако мне показалось, будто первые двенадцать страниц именно такие) или не ассоциируется в обязательном порядке с дыханием женщины, но определенная физически-ментальная последовательность воссоздана в разворачивающемся тексте, и мы принимаем участие. Это, кроме всего прочего, означает следующее: несмотря на то, что на всем протяжении пути нам дают достаточно информации о нарративе, все эти сведения не существуют вне того, как их переосмысляет Грейс; обнаруженное нами — никогда не информация, но всегда она сама. Когда она вспоминает визит в офис к Марву, мы сталкиваемся с мужчиной, чей бешеный гнев должен нас напугать или возмутить; однако мы чувствуем только сострадание, как и Грейс, которая, как теперь известно, не ощущает никакой угрозы от чистой мужской ярости и настолько внимательна, что распознает за жестокими словами выражение растерянности и боли (сс. 115-17).
Наше единство с персонажами «Женщин и мужчин» находит наиболее впечатляющее воплощение в случае жуткого Спенса; и в потрясающей эволюции того, как мы воспринимаем его, а он — сам себя, Спенс олицетворяет также и центральный процесс познания, знания и становления — «вспоминания того, что мы уже знаем».
На протяжении первых двух третей книги мы смотрим на Спенса по большей части глазами Джеймса Мэйна и Джимми Бэнкса: одинокий в представленном довольно симпатичным составе, он выглядит абсолютно коварным малым — стукачом, шпионом, агентом для активно осуждаемых общественных и частных организаций и, вероятнее всего, соучастником подлого убийства. Хуже, чем просто злой: он выглядит, звучит и ведет себя отталкивающе, выделяясь среди всех нас как самый больной палец. Джеймс Мэйн посреди длинного пересмотра деятельности Спенса чувствует, что «есть “что-то еще”, из чего Спенс исходил», и говорит своей подруге Джин: «“Думаю, Спенс в прошлой жизни был змеёй и не справился, так что они разжаловали его до змеи в теле человека, даром что никаких “их” не существует, разве нет? В одном я за него заступлюсь: у него есть доставучесть хорошего журналиста: он слушает и сразу идёт искать”». (с. 870). Это мизерное, скупое признание открывает для Джеймса Мэйна (и для нас вместе с ним) возможность ответственно поразмыслить о Спенсе, вернувшись к оценке его персоналии. Спенс вторгался в жизнь Мэйна не единожды, и каждый способ включал ряд женщин, начавшийся за несколько лет до того с Майги, чилийской журналистки, и недавно пополнившийся его собственной, Спенса, дочерью Флик, его учительницей из старших классов, Перл Майлз, и подругами Диной Уэст и Нормой. Едва заметный сдвиг в восприятии Спенса Мэйном перемещает первого с внешней орбиты внутрь жизни Мэйна, где все мы уже давным-давно собрались. Последствия сдвига Мэйна питают множество страниц, взрываясь (будто размышления Грейс Кимбалл) информацией, но прежде всего убеждают нас, как он убеждает сам себя, что слизняк, о котором он отказывался думать, имеет для него какое-то значение.
Глава (сс. 100-147), в которой Грейс открывает нам саму себя от нашего лица, иллюстрирует процесс откровения и метод, которым нас, читателей, делают интимной его частью — «просодически», в смысле физически. Глава начинается так: «Оно пришло за ней в конце дня и застало её в одиночестве на огромном нетронутом ковре зеркальной Телесной Комнаты, и это была не история её жизни…» (с. 100), и мы не выясним, что такое «оно», еще двенадцать страниц: «Что бы ни было на кону, оно не заканчивалось. Но значение того дня Грейс, которое дошло лишь до неё одной, пока она обрушивалась сама на себя…» (с. 112), и мы не узнаем значения ее дня пока, на пике оргазма, ее глава кончится. Но в промежутке это «оно» витает над нашим сознанием, пока мы сопровождаем Грейс в ее возрастающем возбуждении и горении подожженного фитиля ее памяти сквозь прошлое, которое вот-вот достигнет кульминации в настоящий момент открытия. Глава, может, не формирует единое дыхание (однако мне показалось, будто первые двенадцать страниц именно такие) или не ассоциируется в обязательном порядке с дыханием женщины, но определенная физически-ментальная последовательность воссоздана в разворачивающемся тексте, и мы принимаем участие. Это, кроме всего прочего, означает следующее: несмотря на то, что на всем протяжении пути нам дают достаточно информации о нарративе, все эти сведения не существуют вне того, как их переосмысляет Грейс; обнаруженное нами — никогда не информация, но всегда она сама. Когда она вспоминает визит в офис к Марву, мы сталкиваемся с мужчиной, чей бешеный гнев должен нас напугать или возмутить; однако мы чувствуем только сострадание, как и Грейс, которая, как теперь известно, не ощущает никакой угрозы от чистой мужской ярости и настолько внимательна, что распознает за жестокими словами выражение растерянности и боли (сс. 115-17).
Наше единство с персонажами «Женщин и мужчин» находит наиболее впечатляющее воплощение в случае жуткого Спенса; и в потрясающей эволюции того, как мы воспринимаем его, а он — сам себя, Спенс олицетворяет также и центральный процесс познания, знания и становления — «вспоминания того, что мы уже знаем».
На протяжении первых двух третей книги мы смотрим на Спенса по большей части глазами Джеймса Мэйна и Джимми Бэнкса: одинокий в представленном довольно симпатичным составе, он выглядит абсолютно коварным малым — стукачом, шпионом, агентом для активно осуждаемых общественных и частных организаций и, вероятнее всего, соучастником подлого убийства. Хуже, чем просто злой: он выглядит, звучит и ведет себя отталкивающе, выделяясь среди всех нас как самый больной палец. Джеймс Мэйн посреди длинного пересмотра деятельности Спенса чувствует, что «есть “что-то еще”, из чего Спенс исходил», и говорит своей подруге Джин: «“Думаю, Спенс в прошлой жизни был змеёй и не справился, так что они разжаловали его до змеи в теле человека, даром что никаких “их” не существует, разве нет? В одном я за него заступлюсь: у него есть доставучесть хорошего журналиста: он слушает и сразу идёт искать”». (с. 870). Это мизерное, скупое признание открывает для Джеймса Мэйна (и для нас вместе с ним) возможность ответственно поразмыслить о Спенсе, вернувшись к оценке его персоналии. Спенс вторгался в жизнь Мэйна не единожды, и каждый способ включал ряд женщин, начавшийся за несколько лет до того с Майги, чилийской журналистки, и недавно пополнившийся его собственной, Спенса, дочерью Флик, его учительницей из старших классов, Перл Майлз, и подругами Диной Уэст и Нормой. Едва заметный сдвиг в восприятии Спенса Мэйном перемещает первого с внешней орбиты внутрь жизни Мэйна, где все мы уже давным-давно собрались. Последствия сдвига Мэйна питают множество страниц, взрываясь (будто размышления Грейс Кимбалл) информацией, но прежде всего убеждают нас, как он убеждает сам себя, что слизняк, о котором он отказывался думать, имеет для него какое-то значение.
… вдохновленный Спенсом, всё ещё вполне реальным…
Проблема была в Спенсе. Он всего лишь сводил концы с концами. (с. 877)
…и он услышал, что в ответ на «Ты слишком строг к мелкому негоднику» Теда произносит: «Да уж, в каждом из нас живёт маленький Спенс» — чтобы Тед, как и рисовало живое воображение Мэйна, парировал так: «В самом Спенсе этого больше, чем в ком бы то ни было». (с. 904)
Проблема была в Спенсе. Он всего лишь сводил концы с концами. (с. 877)
…и он услышал, что в ответ на «Ты слишком строг к мелкому негоднику» Теда произносит: «Да уж, в каждом из нас живёт маленький Спенс» — чтобы Тед, как и рисовало живое воображение Мэйна, парировал так: «В самом Спенсе этого больше, чем в ком бы то ни было». (с. 904)
Подобными маленькими шажочками Спенс перемещается от задворок сознания Мэйна к центру, помогая увидеть, что это разграничение — ложное обобщение: «Джеймс Мэйн обнаружил себя вновь покинутым ровно там, где и предполагалось: на отправке лицом вниз по четырем углам однажды постоянного укрытия, не вполне уверенный в том, где окраины, а где центр… Но и окраины, и центр оказались бредом» (с. 911), и Мэйн обнаруживает, что есть «общее поле, соединяющее четыре угла: новая погода…» (с. 911): «Окраина или центр? Мэйн всё не успокаивался, ангельские отходы как обучение, проходящее сквозь него, и он практически ничего не значил и просто продолжил бы существовать, полный шлака, до преклонного возраста, “неплохой план” для “разумного объяснения” Спенса…». (с. 912)
Позднее, узнав, познакомившись с другими, что «известно» о нем, Спенс берет все больше ответственности за себя самого и начинает включаться в жизни других людей:
Позднее, узнав, познакомившись с другими, что «известно» о нем, Спенс берет все больше ответственности за себя самого и начинает включаться в жизни других людей:
Услышав свист покрышек с его стороны и рёв двигателя сразу после, [Дина Уэст] спросила, что это было… и Спенс сказал: «Бизнес, как и всегда»; тогда она: «Ты в информационном бизнесе»; он: «Я ухожу оттуда и перебираюсь на запад: хочу торговать ковбойскими сапогами и сёдлами или, может, стать управляющим супермаркета»; она ответила, что не верит ни единому слову, а он — что и сам не думал о сапогах или супермаркете, пока не произнёс это вслух.
«Вот», — сказала она — «видишь?» Её застала врасплох внезапная нежность в голосе, которую они оба заметили, но она всё же продолжила: «Меня достала городская болтовня по телефону, я отзвонила своё, хочу говорить с тобой лицом к лицу». (с. 1075)
«Вот», — сказала она — «видишь?» Её застала врасплох внезапная нежность в голосе, которую они оба заметили, но она всё же продолжила: «Меня достала городская болтовня по телефону, я отзвонила своё, хочу говорить с тобой лицом к лицу». (с. 1075)
В конце концов, и частично в ходе продолжительной встречи с учительницей Мэйна, Перл Майлз, Спенс оставляет свою «профессиональную» иллюзию того, что знание строится на получении все большего количества информации: «“Раньше я всё это знал”, — говорит Спенс. — “На самом деле это было ещё вчера. Видимо, мне придётся продолжать быть собой”» (с. 1096) — от этих слов исходит желание не знать, позволить бреши быть там, где раньше было «всё это». Но, к нашей настороженной радости, он сделал одну из центральных загадок книги своей целью: «проблема потомства Мэйна — то, что, как Спенс внезапно понял, он был послан разрешить через курс препятствий всех этих лет…». (с. 1091). Разрешение им данного вопроса и нахождение разгадки, когда мы, находящиеся рядом, принимаем этого недостойного человека близко к сердцу, пока он продвигается по еще одной внушительной полосе препятствий, с все-растущим пониманием (читай: состраданием), обеспечивает «Женщин и мужчин» долгой кульминацией изнурительного восторга, в которой две временных преемственности: последовательность и одновременность — сплавляются в огне действия. Все повествовательные навыки автора сконцентрированы здесь, дабы удовлетворить наши самые мелодраматические пристрастия вкупе с самыми серьезными ожиданиями. Я слишком уж уважаю сюжет и напряжение, чтобы дать хоть малейшую подсказку о происходящем; и — теперь уже очевидно — важно не что происходит, а как. Как бы то ни было, вам придется поверить нам на слово.
7
«Не что, а как»: покуда это утверждение верно, его следует понимать как отсылающее к чему-то большему, чем вопросы стиля. В очень уж упрощенном варианте, данное утверждение действительно указывает на значительную часть сути «Женщин и мужчин». Мы уже догадались, что, будучи и по-новому представленными и оформленными, узнаваемые элементы романа вроде личности, времени, пространства и отношения между автором, рассказчиком и читателем не могут не производить поразительные новые эффекты. В действительности мы во время чтения могли бы окончательно убедиться в радикальных отличиях между «Женщинами и мужчинами» и другими романами, если бы автор не прилагал огромные и постоянные усилия, дабы успокоить и разубедить нас с помощью «иллюзий» более привычных глав вкупе с очаровательными регулярными сводками, напоминающими о том, сколькими темами он жонглирует одновременно. Тем предостаточно, и это настоящее жонглерское искусство: все они находятся в постоянном движении. И более того, мячи в воздухе имеют странную привычку напоминать друг друга или даже друг в друга превращаться, пока они проносятся прямо у нас перед глазами. Процесс конвергенции и конверсии — то самое «как», которое я полагаю наиболее важным и главным образом достойным нашего внимания.
«Что» в данной книге — ее материал, ее «суть»: не только люди, вещи и события, но отношения и идеи, включая идеи структуры и языка — все целиком захватывающее; и нам абсолютно точно придется это отпустить, по крайней мере с переднего плана нашего чтения, по крайней мере пока что. С одной стороны то, как все связано со всем остальным, затрудняет размышление над отдельными фрагментами темы: обсуждение практически любой детали приводит к другой и в конце концов охватывает всю книгу. Учитывая скользкость материала, можно привыкнуть и перестать за него цепляться. Позабыть о сущности, отпустить определенные вещи вроде фактов и неплохих идей — не для этого ли существует пустота? Факты и удачные идеи ничего не раскрывают — они едва рентабельны. Они целиком и полностью принадлежат прошлому: прошлому, которое можно назвать отмершим: Мэйн походя упоминает об умении подделать «целые две колонки некроблога сведений». (с. 968; курсив мой). Именно по этой причине читающие данную статью должны простить ей не совершенную ясность: книгу не свернуть до аналитической сводки, легко откладываемой в долгий ящик.
В «Женщинах и мужчинах» одно «что» превращается в другое, а потом и вовсе в любое «что». И процесс трансформации настолько долгий, что мне пришлось убрать из диалога целые сферы: например, политику и экономику. (Сравните с предметом ренты, с. 739, с. 783, с. 790, и т. д.) Ничто в книге не исключено из этого процесса. Он поразительным образом кристаллизуется в мыслях Принца Навахо, когда тот, путешествуя на восток, вспоминает Беринговы Проливы, что раньше соединяли Азию и Америку («неоспоримый факт», если бы такие вообще существовали):
«Что» в данной книге — ее материал, ее «суть»: не только люди, вещи и события, но отношения и идеи, включая идеи структуры и языка — все целиком захватывающее; и нам абсолютно точно придется это отпустить, по крайней мере с переднего плана нашего чтения, по крайней мере пока что. С одной стороны то, как все связано со всем остальным, затрудняет размышление над отдельными фрагментами темы: обсуждение практически любой детали приводит к другой и в конце концов охватывает всю книгу. Учитывая скользкость материала, можно привыкнуть и перестать за него цепляться. Позабыть о сущности, отпустить определенные вещи вроде фактов и неплохих идей — не для этого ли существует пустота? Факты и удачные идеи ничего не раскрывают — они едва рентабельны. Они целиком и полностью принадлежат прошлому: прошлому, которое можно назвать отмершим: Мэйн походя упоминает об умении подделать «целые две колонки некроблога сведений». (с. 968; курсив мой). Именно по этой причине читающие данную статью должны простить ей не совершенную ясность: книгу не свернуть до аналитической сводки, легко откладываемой в долгий ящик.
В «Женщинах и мужчинах» одно «что» превращается в другое, а потом и вовсе в любое «что». И процесс трансформации настолько долгий, что мне пришлось убрать из диалога целые сферы: например, политику и экономику. (Сравните с предметом ренты, с. 739, с. 783, с. 790, и т. д.) Ничто в книге не исключено из этого процесса. Он поразительным образом кристаллизуется в мыслях Принца Навахо, когда тот, путешествуя на восток, вспоминает Беринговы Проливы, что раньше соединяли Азию и Америку («неоспоримый факт», если бы такие вообще существовали):
…ночью на берегу реки, рука на бизоньем языке со всей его затаенной силой с каждым разом приближала его к двоящемуся виду перешейка на вершине Земли, откуда два континента нельзя было увидеть одновременно, пока перешеек не станет зрим в ещё одном своём качестве — движения, поворота оттуда сюда, перемещения, и снова движения, что, будучи замеченным, заставляет мамонта, бизона и охотников с чужеземными семенами, приставшими к одежде, застыть во льдах, остановив бег, и ждать, как на изображениях, переносимых этими вскоре-возможно-расколотыми землями из мира, оставшегося позади, в мир, бывший здесь до, из неба позади… и неба, бывшего до… (с. 1120)
Учитывая его последствия, процессу трансформации можно дать несколько имен, но ни одно из них не исчерпывающее: инклюзия (или два-единение); умножение (одно-двоение); превращение, схождение; и идентификация, в особенности если представить сдвиг от идентификации в значении определения (включающего в себя разграничение, разделение и изоляцию) в сторону идентификации в значении признания равноценности (включающей в себя объединение некогда отдельных элементов). Этот сдвиг в понимании определения идентификации наглядно представлен понятием, то и дело встречающемся в книге: понятием Четырех Углов. Сначала оно появляется как название места, где встречаются границы Юты, Колорадо, Аризоны и Нью-Мексико; показанные на схеме ниже углы символизируют определение и разделение:
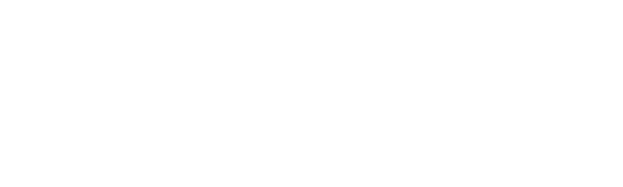
Дальше выражение становится отсылкой к уголкам вселенной, формирующим картинку инклюзии (получаемую из первой с помощью тщательно исследованного Ларри Ширсоном метода умножения под названием «вращение»):
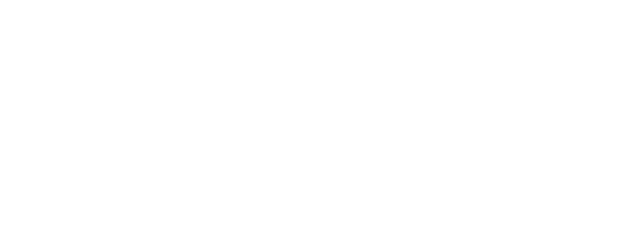
Перед нами важнейшее схематическое отображение процесса превращения центра в окраину и наоборот. (Ларри думает так: «теперь окраина кажется такой центральной» [с. 346], а Джеймс Мэйн — так: «края всегда разворачивали нас к себе, как и вполне функциональный центр». [с. 979]. Как если бы «центр»мог иногда быть именем для обнадеживающей «сути», за которую мы так держимся.)
Мы уже видели, в качестве последствий процесса трансформации, как растворились некоторые знакомые различия вроде отдельных личностей персонажей, феномен, которому придана символическая форма в видении Джеймса Мэйна о лунной станции, куда двое поселенцев прибывают как один. Подобные наложения или слияния были замечены в случае со словами (как, например, «червоточина»), объектами (двумя пистолетами (или одним?)), действиями или историями (о том, как матери бросают сыновей). И вот несколько дополнений к этому списку.
Противопоставление между полами постоянно искажается — неудивительно, если вспомнить перемену в смысле заголовка из женщин/мужчин в женщин-мужчин. Чаще всего это продиктовано нарративными скоплениями или синтаксическими деталями, такими как повторы на протяжении всей книги, вместо привычного порядка фразы «мужчины и женщины», «самого по себе» приходящего на ум, его инверсии, впервые продемонстрированного в заголовке: «Подмешать ей в сок? Вот как мужчины претворяют мечту в жизнь! произносит голос преимущественно женский и мужской». (с. 170). Менее прямые предположения также проясняют этот момент. В начале мы узнаем, что ленточный червь, которого мы впервые слышим за «дивным бедром» дивы, тоже двуполый, и что Грейс Кимбалл, пусть даже ее нам еще официально не представили, «обнаружила историю в женщинах: в тех, что сдерживаемы мужчинами — и в мужчинах, что хранят секретную жидкость женщин, в наличии которых не признаются…». (с. 13). Осведомленность Грейс представлена нам самым драматичным образом: редкой возможностью посетить один из ее семинаров, на котором она с медицинской точностью препарирует различия между половыми органами (отмечая после «одну возникшую на ходу рифму»):
Мы уже видели, в качестве последствий процесса трансформации, как растворились некоторые знакомые различия вроде отдельных личностей персонажей, феномен, которому придана символическая форма в видении Джеймса Мэйна о лунной станции, куда двое поселенцев прибывают как один. Подобные наложения или слияния были замечены в случае со словами (как, например, «червоточина»), объектами (двумя пистолетами (или одним?)), действиями или историями (о том, как матери бросают сыновей). И вот несколько дополнений к этому списку.
Противопоставление между полами постоянно искажается — неудивительно, если вспомнить перемену в смысле заголовка из женщин/мужчин в женщин-мужчин. Чаще всего это продиктовано нарративными скоплениями или синтаксическими деталями, такими как повторы на протяжении всей книги, вместо привычного порядка фразы «мужчины и женщины», «самого по себе» приходящего на ум, его инверсии, впервые продемонстрированного в заголовке: «Подмешать ей в сок? Вот как мужчины претворяют мечту в жизнь! произносит голос преимущественно женский и мужской». (с. 170). Менее прямые предположения также проясняют этот момент. В начале мы узнаем, что ленточный червь, которого мы впервые слышим за «дивным бедром» дивы, тоже двуполый, и что Грейс Кимбалл, пусть даже ее нам еще официально не представили, «обнаружила историю в женщинах: в тех, что сдерживаемы мужчинами — и в мужчинах, что хранят секретную жидкость женщин, в наличии которых не признаются…». (с. 13). Осведомленность Грейс представлена нам самым драматичным образом: редкой возможностью посетить один из ее семинаров, на котором она с медицинской точностью препарирует различия между половыми органами (отмечая после «одну возникшую на ходу рифму»):
Диапозитивы (как их назвали бы во времена ее родителей) Грейс, проецируемые… на экран, чтобы пять сотен женщин увидели всё своими собственными глазами. Послания на слайдах, по два за раз, что выглядят как два экрана, таковы: в этом рассаднике науки и врачевания (больничной аудитории) — сёстры, убедитесь сами: возбуждение, накатывающее волной, является доказательством: посмотрите на пенис и на клитор, узнайте свою вагину и то, что мошонка — то же самое, это всё одинаковые органы, дамы, именно потому вам всегда и казалось, что у вас есть яйца… (с. 185)
Предметы, места, системы, расы — все рифмуется друг с другом; как, что наиболее показательно, и личности. Мы уже успели чуть-чуть посмотреть, как все происходит, но к этой теме стоит вернуться: именно она лежит в основе огромного количества всего остального в книге: не только в написанном, но и в читаемом. Разве отказ от личности, над которой мы так трясемся, — не то, благодаря чему «я» превращаюсь в «мы»?
Как и половые различия, синтаксические средства играют весьма важную роль: поток безобидно выглядящих фраз вроде «Мы как одно…» последовательно подрывает нашу привязанность к драгоценному представлению о себе самих (и когда мы замечаем эти фразы, то едва улыбаемся и идем дальше): противопоставление в «Всем она для него была» или притяжательные местоимения в «этот язык тела мы знали в их костях» (обе фразы — стр. 159). Эта мысль весьма открыто высказана, иногда в недвусмысленных подробностях. Вопрос загадочным образом поднимается еще в начале первой главы-передышки: «сын, отосланный прочь свой матерью… и эти два незабвенных сына втайне были не только двумя, но и одним». (с. 9). К едино-двойности братьев сделано множество отсылок (например, на стр. 174), и все прочие поженившиеся тела и сознания находятся в диапазоне от жестоких «противомасонских ритуалов обмена плотью между индейцами и британскими поселенцами на севере штата Нью-Йорк и в центральной Оклахоме» (с. 894) до чувственного ощущения дивы, что «её фашистский аргонавт» — «её второе тело» (с. 362) и озарения Ларри о «геометрии препятствий» и одновременных перерождениях: «Получая обратную связь… о реинкарнации как о вырастающей из кризиса жизни, когда пустота, распахнувшаяся пред вами, могла вас перехитрить, если бы вы решили погрузиться в неё, так что вы вдруг обнаружили: вы больше, чем один человек, и это нормально, пугающе, интересно, Ларри продолжал наслаждаться сном об именах…». (с. 1071)
Личности могут быть поглощены друг другом не будучи близки (как Грейс Кимбалл и Джеймс Мэйн) или объединены одним языком. Сонм ангелов, к коему мы принадлежим, или который принадлежит нам, может быть чистым светом или чистым намерением. Заключенный Фоли настолько хорошо об этом осведомлен, что, даже когда он пишет Мэйну, то может запросто сказать ему: «Порой я устанавливаю с тобой прямой контакт минуя множество слов». (с. 706). Анасази согласен с тем, что есть какая-то «близость в молчании». (с. 835). Тишина, в конечном счете, может выступать в качестве бреши (той, что в чтении «Женщин и мужчин» проявляется столь очевидно в необъясненные моменты перехода между главами). И, само собой, трансформация двух личностей в одну для будущих космических путешествий из воспоминаний Джеймса Мэйна о будущем не подразумевает никакого диалога, никакой дискуссии, никакого размышления: всего лишь два человека до отправления и один по прибытии.
Может ли эта возможность слияния личностей стать нашей реальностью? Ответ таков: иначе никогда и не было. Трансформация на лунной станции — это аллегория, не только для происходящего в романе, но и для природы сущего. Сходство открывается для нас косвенно и осторожно, как в комментарии Мэйна: «Какого пола? Насколько он знал, поселенцы двое в одном оказывались с настолько глубинными воспоминаниями о другом поле, что они практически встроенные!» (с. 419). Позднее «мы» говорим: «К кому мы придираемся? или добираемся? Не к собственным ли родителям? (Но) мы теперь сами свои родители, и в волшебном зеркале памяти видим: они были ангелами будней, помогающими нам обрести себя, так мы полагаем». (с. 545). Еще парочка цитат:
Как и половые различия, синтаксические средства играют весьма важную роль: поток безобидно выглядящих фраз вроде «Мы как одно…» последовательно подрывает нашу привязанность к драгоценному представлению о себе самих (и когда мы замечаем эти фразы, то едва улыбаемся и идем дальше): противопоставление в «Всем она для него была» или притяжательные местоимения в «этот язык тела мы знали в их костях» (обе фразы — стр. 159). Эта мысль весьма открыто высказана, иногда в недвусмысленных подробностях. Вопрос загадочным образом поднимается еще в начале первой главы-передышки: «сын, отосланный прочь свой матерью… и эти два незабвенных сына втайне были не только двумя, но и одним». (с. 9). К едино-двойности братьев сделано множество отсылок (например, на стр. 174), и все прочие поженившиеся тела и сознания находятся в диапазоне от жестоких «противомасонских ритуалов обмена плотью между индейцами и британскими поселенцами на севере штата Нью-Йорк и в центральной Оклахоме» (с. 894) до чувственного ощущения дивы, что «её фашистский аргонавт» — «её второе тело» (с. 362) и озарения Ларри о «геометрии препятствий» и одновременных перерождениях: «Получая обратную связь… о реинкарнации как о вырастающей из кризиса жизни, когда пустота, распахнувшаяся пред вами, могла вас перехитрить, если бы вы решили погрузиться в неё, так что вы вдруг обнаружили: вы больше, чем один человек, и это нормально, пугающе, интересно, Ларри продолжал наслаждаться сном об именах…». (с. 1071)
Личности могут быть поглощены друг другом не будучи близки (как Грейс Кимбалл и Джеймс Мэйн) или объединены одним языком. Сонм ангелов, к коему мы принадлежим, или который принадлежит нам, может быть чистым светом или чистым намерением. Заключенный Фоли настолько хорошо об этом осведомлен, что, даже когда он пишет Мэйну, то может запросто сказать ему: «Порой я устанавливаю с тобой прямой контакт минуя множество слов». (с. 706). Анасази согласен с тем, что есть какая-то «близость в молчании». (с. 835). Тишина, в конечном счете, может выступать в качестве бреши (той, что в чтении «Женщин и мужчин» проявляется столь очевидно в необъясненные моменты перехода между главами). И, само собой, трансформация двух личностей в одну для будущих космических путешествий из воспоминаний Джеймса Мэйна о будущем не подразумевает никакого диалога, никакой дискуссии, никакого размышления: всего лишь два человека до отправления и один по прибытии.
Может ли эта возможность слияния личностей стать нашей реальностью? Ответ таков: иначе никогда и не было. Трансформация на лунной станции — это аллегория, не только для происходящего в романе, но и для природы сущего. Сходство открывается для нас косвенно и осторожно, как в комментарии Мэйна: «Какого пола? Насколько он знал, поселенцы двое в одном оказывались с настолько глубинными воспоминаниями о другом поле, что они практически встроенные!» (с. 419). Позднее «мы» говорим: «К кому мы придираемся? или добираемся? Не к собственным ли родителям? (Но) мы теперь сами свои родители, и в волшебном зеркале памяти видим: они были ангелами будней, помогающими нам обрести себя, так мы полагаем». (с. 545). Еще парочка цитат:
многие из… поселенцев сообщали о непреходящем чувстве наполненности сразу после прибытия, которое позже… отнесли на счёт запредельно сильного ощущения, появившегося, в свою очередь, из безусловного источника внутренней силы каждой из личностей… ничего кроме, только личности… (с. 890)
удивляясь тому, как мы смогли добраться сюда, не понимая определенных причин в нашем коллективном детстве, будто нам пришлось забыть о них, чтобы двигаться дальше — пытаясь, скажем, выяснить, как внедрить погоду в «беспогодные» условия, ничего не разрушив… (с. 892)
удивляясь тому, как мы смогли добраться сюда, не понимая определенных причин в нашем коллективном детстве, будто нам пришлось забыть о них, чтобы двигаться дальше — пытаясь, скажем, выяснить, как внедрить погоду в «беспогодные» условия, ничего не разрушив… (с. 892)
Кто в нашем родополовом мире не был запущен в странное место, два человека становятся одним? Грезы Джеймса Мэйна — не фантазия, а изобретательное отображение положения людей. Мы все семья, нравится нам или нет: это часть нашей жизни, как погода. Но не просто семья — ангелы позаботились об этом. И все же мы задаемся вопросом, надеясь узнать ответ, кто та женщина (по имени Маргарет) со страницы 1176; в конце книги на кладбище в Виндроу мы видим Мэйна, Спенса, Маргарет, Александра и Принца Навахо: так собираются вместе все фрагменты семейной истории, которую мы уже готовы назвать неизбежной, необходимой и во многом «нашей».
Как и видение станции на Луне, «Женщины и мужчины» — не пустая фантазия: она не предсказывает, а рассказывает, это история нашей реальности как единства, умножающегося до колоссального многообразия — многообразия, растворяющегося в единстве. История нашей реальности, более не распознаваемой как нечто, принадлежащее автору: даже если необходимо признать, что мы куда менее, чем он, готовы к разрушению привычных категорий мысли.
Нужно отметить, как цель, стоящая за необычайным разнообразием персонажей и событий в книге отличается от той у еще одного великого накопителя Жоржа Перека, продемонстрированной, например, в «Жизнь способ употребления». Перек включает в свою работу не менее щедрое количество информации, чем есть в «Женщинах и мужчинах», но делает это по причинам исключительно скептическим и пессимистическим. Он намерен спасти все возможное от прошлого и настоящего как оплот против неизбежных потерь, «вытягивая фрагменты», как он сам говорит, «из становящийся все глубже бездны». Щедрость американца, напротив, разворачивает обширный тур по нашей роли во вселенной.
И, как говорит он сам во введении, американец он и есть. Его взгляд не обходит болезни, смерть, пытки и прочие страдания, но остается верным вдохновенному принятию, напоминающему больше видения Эмерсона и раннего Уитмена, под чьи критерии данная книга, кажется, вполне подходит:
Как и видение станции на Луне, «Женщины и мужчины» — не пустая фантазия: она не предсказывает, а рассказывает, это история нашей реальности как единства, умножающегося до колоссального многообразия — многообразия, растворяющегося в единстве. История нашей реальности, более не распознаваемой как нечто, принадлежащее автору: даже если необходимо признать, что мы куда менее, чем он, готовы к разрушению привычных категорий мысли.
Нужно отметить, как цель, стоящая за необычайным разнообразием персонажей и событий в книге отличается от той у еще одного великого накопителя Жоржа Перека, продемонстрированной, например, в «Жизнь способ употребления». Перек включает в свою работу не менее щедрое количество информации, чем есть в «Женщинах и мужчинах», но делает это по причинам исключительно скептическим и пессимистическим. Он намерен спасти все возможное от прошлого и настоящего как оплот против неизбежных потерь, «вытягивая фрагменты», как он сам говорит, «из становящийся все глубже бездны». Щедрость американца, напротив, разворачивает обширный тур по нашей роли во вселенной.
И, как говорит он сам во введении, американец он и есть. Его взгляд не обходит болезни, смерть, пытки и прочие страдания, но остается верным вдохновенному принятию, напоминающему больше видения Эмерсона и раннего Уитмена, под чьи критерии данная книга, кажется, вполне подходит:
Американские поэты должны охватывать и старое, и новое, ибо Америка есть гонка многих рас. И из них барды — именно та, что должна всегда быть соразмерна народу… Их задача — познать суть реальных вещей и событий прошлого и будущего — невероятное многообразие температур, земледельческих и горных промыслов — племен краснокожих аборигенов — потрепанных стихией суден, входящих в новый порт или встречающихся с каменистыми берегами… (Предисловие к «Листьям Травы», 1855)
Как и у Уитмена, принятие у автора одновременно и не осуждающее, и подчеркнуто этичное. В книге буквально нет ни единого персонажа, с которым мы не соглашаемся и которого не принимаем; в то же время нет и никого, с кем мы призваны быть чрезмерно связаны (пожалуй, кроме Спенса, чей исход от «порочности» к знанию невероятно важен для нашего осознания того, куда мы движемся). Помимо близнецов из витрины магазинчика в даунтауне, которые в одном случае берут на себя роль, но нет плохих или хороших. Этичность книги может быть названа ответственностью. Принятие происходит не от безразличия, оно никогда не зависит от романтической надежды или мистицизма, но прочно зиждется — как свидетельствует множество цитат — в обилии доказательств: не самих фактов, но образа, которым все факты, «хорошие» или «плохие», связаны в единое целое. Ницше, парируя нападки метафизиков на ценности в «По ту сторону добра и зла», пишет: «Может даже статься, составляющее ценность… хороших и почитаемых вещей именно в том, что они связаны с этими чудовищными и, как кажется, противоположными вещами — вероятно, даже едиными с ними в своей сути» — и подобная позиция вдыхает жизнь если не в веру, то наверняка в соответствующий процесс в «Женщинах и мужчинах». Его можно назвать даже религиозной позицией, если раскопать этимологию слова «религия»: re-ligare, то есть, «связывать снова». Тут мы вспоминаем «Только соединить[ся]» Эдварда Форстера.
Подобно поселенцам, только что прибывшим на лунную станцию, мы, читатели «Женщин и мужчин», испытываем в процессе чтения «неуемное чувство продолжительного наполнения» (и под «наполнением» явно имеется в виду информационное). Если роман мог продолжаться дальше, то почему же так и не произошло? Или это должно быть нашей заботой?
Подобно поселенцам, только что прибывшим на лунную станцию, мы, читатели «Женщин и мужчин», испытываем в процессе чтения «неуемное чувство продолжительного наполнения» (и под «наполнением» явно имеется в виду информационное). Если роман мог продолжаться дальше, то почему же так и не произошло? Или это должно быть нашей заботой?
8
Из моего последнего года в качестве студента в колледже, когда я работал над дипломом по камерной музыке Шуберта, я вспоминаю один момент: закончив анализ нескольких произведений, я вдруг понял, что единственный способ отдать должное самой музыке — приложить ноты (или вовсе записи). Не то, чтобы описание и обсуждение было бы «предательством» объекта моего исследования (все написанное о музыке невероятно далеко от нее), но в этих конкретных произведениях формальные и стилистические практики, мной определенные, казалось, не имеют никакого смысла, если не воплощены в движении музыки звучащей и услышанной. Будучи отделенными от движения, эти особенности угрожали потерей всяческого значения или даже хуже: отвлечением от оригинального замысла композитора — становясь потенциальными отговорками, чтобы ничего не слушать.
Перечитывание «Женщин и мужчин» заставило меня ощутить то же самое, что и тогда. Как и лучшие произведения Шуберта, Бетховена, Гайдна, «Женщины и мужчины» нацелены на придание процессу дополнительных смыслов помимо того, что сказано в тексте. И только покуда я следую движению предложений в романе, я могу ощущать приближение к сути, к тому, о чем в нем говорится и что делается; к тому, о чем говорится и чего не делается. Я бы хотел заменить эту статью на какой-то акт вроде: взять нового читателя за руку, подвести его или ее к книге, чтобы разделить удивление, замешательство, восторг по мере того, как мы продвигаемся от одной страницы к следующей, от первой — к последней.
Перечитывание «Женщин и мужчин» заставило меня ощутить то же самое, что и тогда. Как и лучшие произведения Шуберта, Бетховена, Гайдна, «Женщины и мужчины» нацелены на придание процессу дополнительных смыслов помимо того, что сказано в тексте. И только покуда я следую движению предложений в романе, я могу ощущать приближение к сути, к тому, о чем в нем говорится и что делается; к тому, о чем говорится и чего не делается. Я бы хотел заменить эту статью на какой-то акт вроде: взять нового читателя за руку, подвести его или ее к книге, чтобы разделить удивление, замешательство, восторг по мере того, как мы продвигаемся от одной страницы к следующей, от первой — к последней.
"Дозорный картридж" — роман Джозефа Макэлроя, который готовится нами к изданию
"Нейронные окрестности" — эссе Джозефа Макэлроя
"Сопротивление материалов и неидиоматическая интерференция травм" — рецензия на роман Джозефа Макэлроя "Актриса в доме"
Библиография Джозефа Макэлроя


