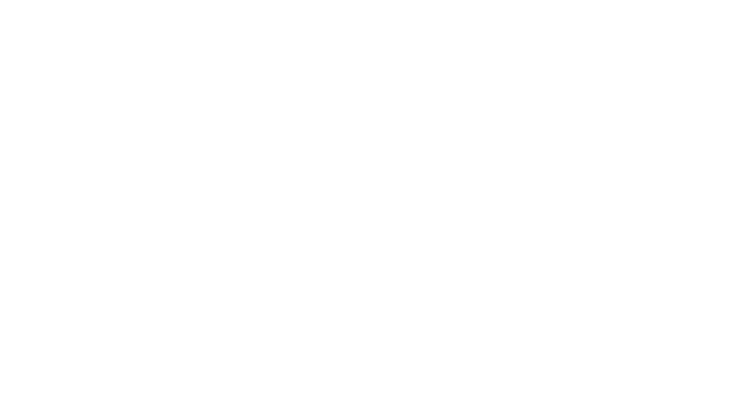Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Фраза из рассказа «Первая любовь»: «Только мы с отцом во всем доме и понимали в помидорах». Пер. Е. Суриц.
См. роман «Ванная комната»: «Сидя на краю ванны, я говорил Эдмондссон, что, может, и не вполне нормально жить в ванной в уединении, когда тебе двадцать семь лет и скоро стукнет двадцать девять». Пер. А. Поповой.
Опубликовано в L’Urgence et la Patience (Éditions de Minuit, 2012)
О Жероме Лендоне и Сэмюэле Беккете
Автор Жан-Филипп Туссен
перевод Никиты Федосова
перевод Никиты Федосова
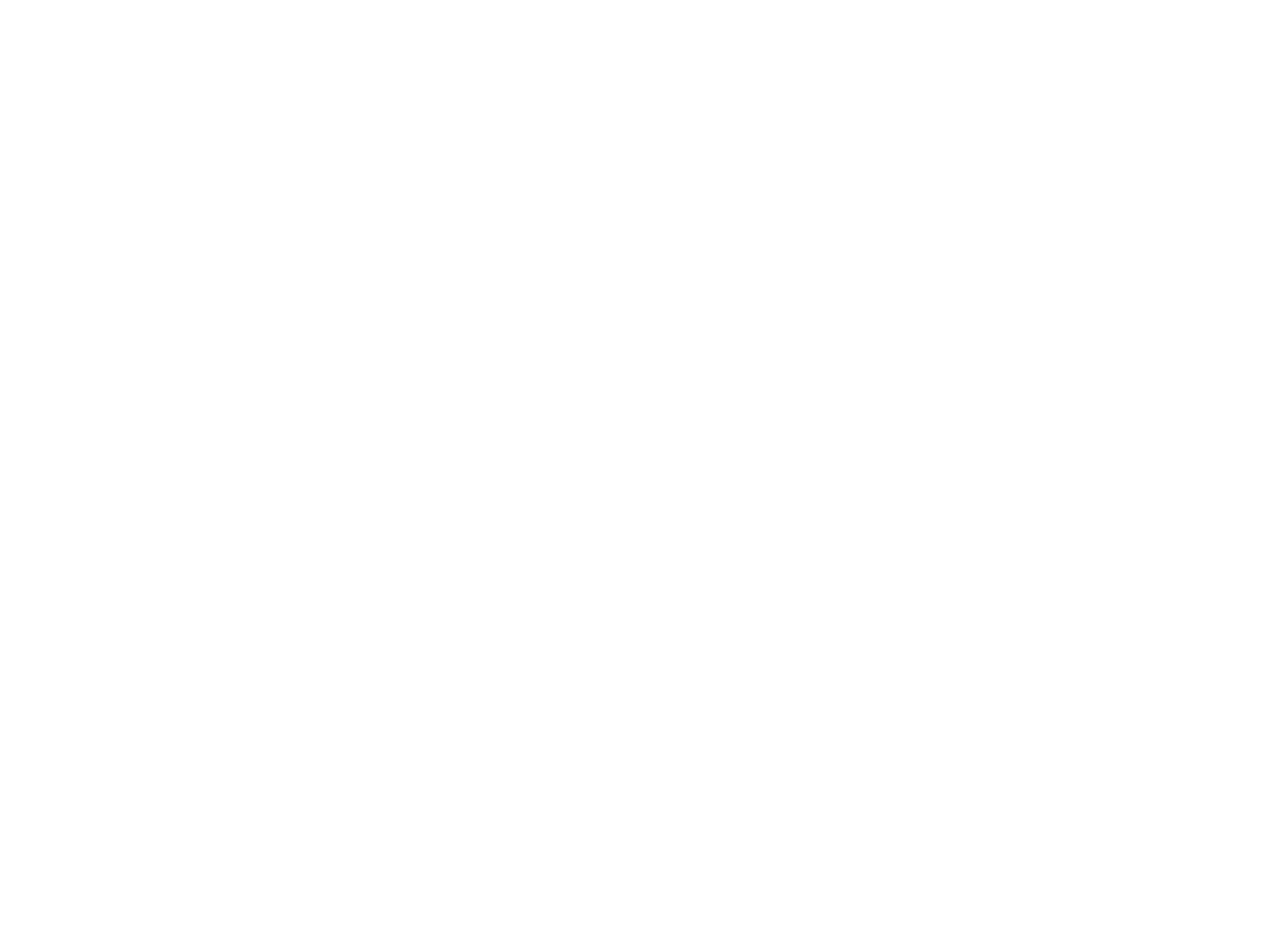
День, когда я познакомился с Жеромом Лендоном
Телеграмма, c нее началось мое знакомство с Жеромом Лендоном, и передо мной вновь ясно предстает ее бледная и голубоватая бумага и обезличенные слова, отпечатанные машинкой на скрепленных друг c другом полосках белой бумаги, я читал их, сидя напротив камина в доме в Эрбалунге, и пытался сдержать свое возбуждение, я уже не помню точно, что там в этой телеграмме было написано, вероятно, какое-то очень простое сообщение, и Жером Лендон, несомненно, просил ему ответить, но я помню, что ощущал странное спокойствие при взгляде на эту бумажку в своих руках, предчувствуя, что она таит в себе потенциальное утверждение траектории всей моей жизни.
Впервые я пообщался с Жеромом Лендоном только на следующий день, из маленькой телефонной кабинки почтового отделения Эрбалунги. Прекрасно помню первые слова этого разговора, скрюченный я в застекленной кабинке внутри почтового отделения, голова опущена, одна рука на телефонной трубке, чтобы ничего не упустить, и он, сразу же спрашивающий меня, не подписал ли я уже контракт с каким-либо издателем. Нет, рукопись «Ванной комнаты» отклонили все издательства, в которые я ее предлагал, и она покоилась в ожидании решения в кабинете Алена Роб-Грийе, в то время преподававшего в США, и Жером Лендон обнаружил ее лишь по воле случая, в один из тех дней, когда он праздно шатался по зданию (кто знает, может и с лейкой в руке, поскольку, когда нам впоследствии довелось увидеться, он мог бы с легкостью присвоить себе ту фразу Беккета, цитирую ее по памяти, из «Изгнанника» или «Моллоя», «только я во всем доме и понимал в помидорах»)1.
С того самого дня и в течение всего последующего месяца — я отправил обратно почтой подписанный контракт, но мы еще не увиделись лично, — он звонил мне на Корсику один-два раза в неделю в дом моих соседей, владевших небольшой фермой книзу от моего дома (на прогулку пешком между двумя домами уходило пять минут туда и семь минут обратно). Я приходил, весь запыхавшийся и счастливый, и мы обсуждали то да сё по телефону, мои литературные влияния и мою рукопись. В то время мне казалось нормальным, что издатель столь тщательно интересуется малейшими лилипутскими деталями в рукописи незнакомца. Рождественским днем 1984 года он даже позвонил мне в Брюссель, домой к моим родителям, у него были небольшие сомнения, какой вариант стоит предпочесть: «синусит для него не был вещью хоть в чем-то примечательной» или «синусит для него был вещью ничем не примечательной». Он мог бы, безусловно, набрать мне и в рождественскую ночь, но со всем своим благоразумием предпочел подождать следующего дня, полагая, несомненно, что этот вопрос может потерпеть и до ужина 25-го декабря.
В первый раз мы, наконец, повстречались в один послеобеденный час в декабре 1984 года. Я хорошо помню первый взгляд, которым одарил меня в тот день Жером Лендон, чрезвычайно прямой взгляд, я ощутил надежность этого взора с первой же встречи наших глаз, взгляд оценивающий, смеряющий и выносящий суждение, я пробыл под ним едва ли больше пяти секунд, а Лендон сразу же встал из кресла, чтобы принять меня в своем кабинете на третьем этаже улицы Бернар-Палисси и погрузиться в размышление, с тем чувством неотложности, любопытства и живости, которое и ставило его издательскую деятельность так высоко, был ли я выше его или нет. Но его манера ничего не выдавала, он оставался невозмутимым и заставил меня присесть, ни капли разочарования не отразилось на его лице при констатации, что я был чуточку выше, кроме, возможно, легкой сдерживаемой досады, мимолетного чувства горечи, тут же изгнанного из его головы (ну и ну, у молодых авторов уже нет уважения к старшим, элементарной вежливости быть немного ниже своего издателя).
Едва ли больше воспоминаний у меня осталось о нашем первом разговоре, но я все еще ясно представляю себе его кабинет, полки с книгами вдоль стен, бело-синими со звездой «Минюи» или с разноцветными обложками у бесчисленных переводов авторов издательства, много нового началось для меня в тот день, что вскоре стало ритуальным и неизменным, встречи в полпервого для обеда, его галоп по лестнице, чтобы повстречать гостя и пожать тому руку, его едва заметная одышка после такого пробега, неспешная прогулка до ресторана «Сибарит», обмен новостями и перебрасывание шутками на улице, его манера ловко от них уворачиваться и вновь запускать разговор после секунды молчания.
Что еще мне запомнилось, что поразило с первого раза, так это та одаренность, с которой он мог обезвреживать напряжение, с примесью авторитарной уверенности во взгляде, внушавшем уважение, и плавности в жестах, в глиссе его рук и мягкости его голоса, усмирявших собеседника и загодя предотвращавших все возможные перепалки на манер тех укротителей, закаленных в работе с огромными и дикими животными, столь уязвимыми, опасными и непредсказуемыми, которыми — у меня начало зарождаться предчувствие — и должны были быть писатели.
После окончания нашей первой встречи, под конец того декабрьского вечера 1984 года силы понемногу покидали меня, слишком много всего свершилось за раз, слишком много эмоций, и я сел на тротуар, улица Ренн, это был канун Рождества, было темно, украшения свисали с гирлянд в магазинных витринах, я сидел подле дороги, лоб влажный от пота, свет от автомобильных фар пробегал по моему лицу, взгляд затуманивался, и я ощущал, как понемногу теряю сознание, я провожал взглядом задние огни автомобилей, удалявшихся вверх по бульвару Сен-Жермен, смотрел на небо, смотрел на город, я поднял воротник своего пальто и больше не двигался, я продолжал сидеть там, на парижской улице в шесть часов вечера, мне было двадцать семь лет, почти двадцать девять2, я только что попрощался с Жером Лендоном, а «Ванная комната» должна была быть опубликована издательством «Минюи».
Впервые я пообщался с Жеромом Лендоном только на следующий день, из маленькой телефонной кабинки почтового отделения Эрбалунги. Прекрасно помню первые слова этого разговора, скрюченный я в застекленной кабинке внутри почтового отделения, голова опущена, одна рука на телефонной трубке, чтобы ничего не упустить, и он, сразу же спрашивающий меня, не подписал ли я уже контракт с каким-либо издателем. Нет, рукопись «Ванной комнаты» отклонили все издательства, в которые я ее предлагал, и она покоилась в ожидании решения в кабинете Алена Роб-Грийе, в то время преподававшего в США, и Жером Лендон обнаружил ее лишь по воле случая, в один из тех дней, когда он праздно шатался по зданию (кто знает, может и с лейкой в руке, поскольку, когда нам впоследствии довелось увидеться, он мог бы с легкостью присвоить себе ту фразу Беккета, цитирую ее по памяти, из «Изгнанника» или «Моллоя», «только я во всем доме и понимал в помидорах»)1.
С того самого дня и в течение всего последующего месяца — я отправил обратно почтой подписанный контракт, но мы еще не увиделись лично, — он звонил мне на Корсику один-два раза в неделю в дом моих соседей, владевших небольшой фермой книзу от моего дома (на прогулку пешком между двумя домами уходило пять минут туда и семь минут обратно). Я приходил, весь запыхавшийся и счастливый, и мы обсуждали то да сё по телефону, мои литературные влияния и мою рукопись. В то время мне казалось нормальным, что издатель столь тщательно интересуется малейшими лилипутскими деталями в рукописи незнакомца. Рождественским днем 1984 года он даже позвонил мне в Брюссель, домой к моим родителям, у него были небольшие сомнения, какой вариант стоит предпочесть: «синусит для него не был вещью хоть в чем-то примечательной» или «синусит для него был вещью ничем не примечательной». Он мог бы, безусловно, набрать мне и в рождественскую ночь, но со всем своим благоразумием предпочел подождать следующего дня, полагая, несомненно, что этот вопрос может потерпеть и до ужина 25-го декабря.
В первый раз мы, наконец, повстречались в один послеобеденный час в декабре 1984 года. Я хорошо помню первый взгляд, которым одарил меня в тот день Жером Лендон, чрезвычайно прямой взгляд, я ощутил надежность этого взора с первой же встречи наших глаз, взгляд оценивающий, смеряющий и выносящий суждение, я пробыл под ним едва ли больше пяти секунд, а Лендон сразу же встал из кресла, чтобы принять меня в своем кабинете на третьем этаже улицы Бернар-Палисси и погрузиться в размышление, с тем чувством неотложности, любопытства и живости, которое и ставило его издательскую деятельность так высоко, был ли я выше его или нет. Но его манера ничего не выдавала, он оставался невозмутимым и заставил меня присесть, ни капли разочарования не отразилось на его лице при констатации, что я был чуточку выше, кроме, возможно, легкой сдерживаемой досады, мимолетного чувства горечи, тут же изгнанного из его головы (ну и ну, у молодых авторов уже нет уважения к старшим, элементарной вежливости быть немного ниже своего издателя).
Едва ли больше воспоминаний у меня осталось о нашем первом разговоре, но я все еще ясно представляю себе его кабинет, полки с книгами вдоль стен, бело-синими со звездой «Минюи» или с разноцветными обложками у бесчисленных переводов авторов издательства, много нового началось для меня в тот день, что вскоре стало ритуальным и неизменным, встречи в полпервого для обеда, его галоп по лестнице, чтобы повстречать гостя и пожать тому руку, его едва заметная одышка после такого пробега, неспешная прогулка до ресторана «Сибарит», обмен новостями и перебрасывание шутками на улице, его манера ловко от них уворачиваться и вновь запускать разговор после секунды молчания.
Что еще мне запомнилось, что поразило с первого раза, так это та одаренность, с которой он мог обезвреживать напряжение, с примесью авторитарной уверенности во взгляде, внушавшем уважение, и плавности в жестах, в глиссе его рук и мягкости его голоса, усмирявших собеседника и загодя предотвращавших все возможные перепалки на манер тех укротителей, закаленных в работе с огромными и дикими животными, столь уязвимыми, опасными и непредсказуемыми, которыми — у меня начало зарождаться предчувствие — и должны были быть писатели.
После окончания нашей первой встречи, под конец того декабрьского вечера 1984 года силы понемногу покидали меня, слишком много всего свершилось за раз, слишком много эмоций, и я сел на тротуар, улица Ренн, это был канун Рождества, было темно, украшения свисали с гирлянд в магазинных витринах, я сидел подле дороги, лоб влажный от пота, свет от автомобильных фар пробегал по моему лицу, взгляд затуманивался, и я ощущал, как понемногу теряю сознание, я провожал взглядом задние огни автомобилей, удалявшихся вверх по бульвару Сен-Жермен, смотрел на небо, смотрел на город, я поднял воротник своего пальто и больше не двигался, я продолжал сидеть там, на парижской улице в шесть часов вечера, мне было двадцать семь лет, почти двадцать девять2, я только что попрощался с Жером Лендоном, а «Ванная комната» должна была быть опубликована издательством «Минюи».
Сэмюэлю Беккету
В начале восьмидесятых годов я написал Сэмюэлю Беккету. В своем письме я ему объяснял, что пробую себя в писательстве, и вдобавок высказывал предположение, что ему и без того постоянно докучают незнакомцы, а потому предлагаю ему, вместо выбивания у него мнения об одном из моих текстов, разыграть в переписке шахматную партию, ставкой в которой станет прочтение только что написанной мною пьесы. Выиграл я, он читает мою пьесу и высказывает свое мнение. Выиграл он, я перечитываю свою пьесу на свежую голову. Я закончил свое письмо так: «на всякий случай, 1. e4.». Обратным отправлением, Сэмюэль Беккет мне ответил: «Черные признают поражение. Отправьте пьесу. С уважением, Сэмюэль Беккет». Я отправил свою пьесу и спустя неделю или две получил еще одну написанную его рукой маленькую записку, свое обещание он сдержал: прочел мою пьесу и посоветовал мне сократить некоторые места.
Позже, гораздо позже, по меркам моего тогдашнего восприятия времени (позже, скажем, на четыре года), я оказался в кабинете Жерома Лендона на парижской улице Бернар-Палисси. Мой первый роман, «Ванная комната», был только что опубликован, книгу хорошо приняли критики, а наши с Лендоном отношения стали довольно непринужденными и сердечными. Под конец нашей беседы я встаю и протягиваю ему на прощание руку. «Вы слишком торопитесь, — говорит он мне, — присаживайтесь, поболтаем еще немного». Я вновь сажусь, и мы продолжаем беседу. Разговор начинает топтаться на месте, а я не совсем тогда понимал, к чему же он клонит (вероятно, он что-то задумал). Ровно в три часа звонит телефон, и Жером Лендон бросается к своему письменному столу, чтобы снять трубку (при любых обстоятельствах у него сохранялась эта стремительная манера срывать трубку, словно он пытался сыграть на опережение с готовым вот-вот растворится в воздухе телефоном), и отвечает спокойным голосом: «Спускаюсь». Он кладет трубку и говорит мне: «Пойдемте, я познакомлю вас с Беккетом». Мы спускаемся, один за другим, по темной крутой винтовой лестнице издательства «Минюи», а Сэмюэль Беккет там, на первом этаже, в дверном проеме. Я чрезвычайно испуган, я уже не понимаю, что ему говорит Лендон, не понимаю, что говорю я, не понимаю, что говорит Беккет. Короче говоря, я больше ничего не понимаю. Ах, каков мемуарист. В моих воспоминаниях — хотя, возможно, это даже не воспоминания, а лишь смутная попытка реконструкции сцены, — мы, стоя в дверях, пожимаем друг другу руки, и меня моментально поражают три вещи: для начала, чрезвычайно слабые и хрупкие ноги Беккета, затем пальто, которое в этот день на нем надето, искусно простеганное серой шерстью, и, наконец, что для меня, возможно, самое экстравагантное (но если задуматься, то в целом вполне нормальное) — у Беккета, когда он говорит по-французски, ирландский акцент.
В последующие годы я раз-другой пересекался с Сэмюэлем Беккетом в «Минюи», неизменно в одном и том же месте, в дверном проеме на первом этаже, что на улице Бернар-Палисси (один раз там присутствовала и моя сестра). До сих пор я не посылал своих книг Беккету (из застенчивости, скромности или робости, не знаю), но с третьей книгой, «Фотоаппаратом», я уже чувствую себя увереннее и, поскольку вот уже четыре года регулярно говорю о Беккете с Жеромом Лендоном во время наших совместных обедов, где я не упускаю случая справиться о нем и поскольку у Лендона было предостаточно возможностей дать понять Беккету, насколько я восхищаюсь его творчеством, я заявляю Лендону о своем желании подписать книгу для Беккета. Наконец, и, разумеется, со всей ответственностью (при прочих равных, я должно быть потратил больше времени на раздумья о посвящении, чем на написание самой книги), я пишу: «Сэмюэлю Беккету, со всем моим безмерным почтением и безмерным восхищением». Отлично, говорит мне Лендон, я отнесу ему книгу. В январе 1989 года Беккет был уже очень слаб, но, как мне доложил Жером Лендон, тот был очень тронут моим посвящением. В последствии я даже узнал от Лендона, который ежедневно навещал того подле кровати, — далее сцена, которую я привожу с большой деликатностью, а представляю себе с еще большей эмоциональностью, — что, так как Беккет был очень слаб и прикован к постели, Жером Лендон прямо там, в его комнате, однажды прочел Беккету вслух концовку «Фотоаппарата».
Жером Лендон умер в апреле 2001 года, и как-то раз, в 2002 году, когда я бродил по кладбищу Монпарнас в поисках его могилы, я случайно наткнулся на могилу Беккета, который похоронен неподалеку от Лендона. Стоял ясный день. Садовники обдавали надгробия водой из шланга. Я остановился, и, стоя на кладбищенской дорожке, еще долго вглядывался в гладкую поверхность влажного мрамора могилы Беккета, поблескивавшую в лучах солнца.
Позже, гораздо позже, по меркам моего тогдашнего восприятия времени (позже, скажем, на четыре года), я оказался в кабинете Жерома Лендона на парижской улице Бернар-Палисси. Мой первый роман, «Ванная комната», был только что опубликован, книгу хорошо приняли критики, а наши с Лендоном отношения стали довольно непринужденными и сердечными. Под конец нашей беседы я встаю и протягиваю ему на прощание руку. «Вы слишком торопитесь, — говорит он мне, — присаживайтесь, поболтаем еще немного». Я вновь сажусь, и мы продолжаем беседу. Разговор начинает топтаться на месте, а я не совсем тогда понимал, к чему же он клонит (вероятно, он что-то задумал). Ровно в три часа звонит телефон, и Жером Лендон бросается к своему письменному столу, чтобы снять трубку (при любых обстоятельствах у него сохранялась эта стремительная манера срывать трубку, словно он пытался сыграть на опережение с готовым вот-вот растворится в воздухе телефоном), и отвечает спокойным голосом: «Спускаюсь». Он кладет трубку и говорит мне: «Пойдемте, я познакомлю вас с Беккетом». Мы спускаемся, один за другим, по темной крутой винтовой лестнице издательства «Минюи», а Сэмюэль Беккет там, на первом этаже, в дверном проеме. Я чрезвычайно испуган, я уже не понимаю, что ему говорит Лендон, не понимаю, что говорю я, не понимаю, что говорит Беккет. Короче говоря, я больше ничего не понимаю. Ах, каков мемуарист. В моих воспоминаниях — хотя, возможно, это даже не воспоминания, а лишь смутная попытка реконструкции сцены, — мы, стоя в дверях, пожимаем друг другу руки, и меня моментально поражают три вещи: для начала, чрезвычайно слабые и хрупкие ноги Беккета, затем пальто, которое в этот день на нем надето, искусно простеганное серой шерстью, и, наконец, что для меня, возможно, самое экстравагантное (но если задуматься, то в целом вполне нормальное) — у Беккета, когда он говорит по-французски, ирландский акцент.
В последующие годы я раз-другой пересекался с Сэмюэлем Беккетом в «Минюи», неизменно в одном и том же месте, в дверном проеме на первом этаже, что на улице Бернар-Палисси (один раз там присутствовала и моя сестра). До сих пор я не посылал своих книг Беккету (из застенчивости, скромности или робости, не знаю), но с третьей книгой, «Фотоаппаратом», я уже чувствую себя увереннее и, поскольку вот уже четыре года регулярно говорю о Беккете с Жеромом Лендоном во время наших совместных обедов, где я не упускаю случая справиться о нем и поскольку у Лендона было предостаточно возможностей дать понять Беккету, насколько я восхищаюсь его творчеством, я заявляю Лендону о своем желании подписать книгу для Беккета. Наконец, и, разумеется, со всей ответственностью (при прочих равных, я должно быть потратил больше времени на раздумья о посвящении, чем на написание самой книги), я пишу: «Сэмюэлю Беккету, со всем моим безмерным почтением и безмерным восхищением». Отлично, говорит мне Лендон, я отнесу ему книгу. В январе 1989 года Беккет был уже очень слаб, но, как мне доложил Жером Лендон, тот был очень тронут моим посвящением. В последствии я даже узнал от Лендона, который ежедневно навещал того подле кровати, — далее сцена, которую я привожу с большой деликатностью, а представляю себе с еще большей эмоциональностью, — что, так как Беккет был очень слаб и прикован к постели, Жером Лендон прямо там, в его комнате, однажды прочел Беккету вслух концовку «Фотоаппарата».
Жером Лендон умер в апреле 2001 года, и как-то раз, в 2002 году, когда я бродил по кладбищу Монпарнас в поисках его могилы, я случайно наткнулся на могилу Беккета, который похоронен неподалеку от Лендона. Стоял ясный день. Садовники обдавали надгробия водой из шланга. Я остановился, и, стоя на кладбищенской дорожке, еще долго вглядывался в гладкую поверхность влажного мрамора могилы Беккета, поблескивавшую в лучах солнца.