Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Далее я буду цитировать русское либретто «Парсифаля» (Р. Вагнер. Парсифаль. Либретто. Перевод Всеволода Чешихина), немецкое либретто (Libretto von Parsifal von Richard Wagner. Opera Guide) и книгу: Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль. М.: Русский путь, 2004 (перевод Л. В. Гинзбурга). Вагнер пишет «Парсифаль» и «Амфортас», фон Эшенбах – «Парцифаль» и «Анфортас».
Ханс Волльшлегер. Отростки сердца, или Синдром падшего Адама. М.: Райхль, 2019 (перевод Т. Баскаковой).
Сотрудники библиотеки в свое время предоставили мне копию этой машинописи и разрешили ее цитировать, за что я выражаю им искреннюю благодарность.
Hans Zimmermann Richard Wagner: Parsifal, erster Aufzug; Text und Kommentar (www.12koerbe: http://12koerbe.de › parsgral).
В первом наброске сюжета «Парсифаля», сделанном Вагнером в 1865 г., (Ричард Вагнер. Эскиз драмы-мистерии «Парсифаль». В переводе и с предисловием Виктора Коломийцева. СПБ.: Издание «Концертов А. Зилоти», 1909, с. 22) сказано, что Кундри (в Первом действии) носит «темнокрасное одеяние, пояс из змеиных кож».
Hans Zimmermann Richard Wagner: Parsifal, zweiter Aufzug; Text und Kommentar (www.12koerbe: http://12koerbe.de › parsgral).
В романе Волльшлегера (в первой версии) Адамса иногда называют «мастером»; там идет речь также о некоей «мастерской работе» Галланда. Во второй версии романа Галланд называет себя «мастером распутства» (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 406).
В: Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма. М.: Ad Marginem, 2008, с. 422-423 (перевод Марка Белорусца).
В: Сьюзен Сонтаг. Под Знаком Сатурна. М.: Ад Маргинем Пресс, 2019 (перевод С. Б. Дубина).
«И тьма была по всей земле до часа девятого» (греч.): цитата из Мф. 27:45–46.
«Страсти по Матфею» (лат.)
Район Рио-де-Жанейро, расположенный на берегу океанического залива и славящийся своими песчаными пляжами.
«Новости изнутри эволюции», в: Hans Wollschläger. Von Sternen und Schnuppen. Bei Gelegenheit einiger Bücher. Göttingen: Wallstein Verlag, 2006, Bd. II, S. 164–167.
Так называется книга Михаэля Майера о Томасе Манне.
В начале (ивр.), первые слова Ветхого Завета: «В начале сотворил Бог небо и землю...»
В начале (греч.)
David Engels. „Die Wunde sah’ ich bluten: – nun blutet sie in mir!“ Die Symbolik des Bluts in Richard Wagners Parsifal, in: Blut. Die Kraft des ganz besonderen Saftes in Medizin, Literatur, Geschichte und Kultur. Kassel: University Press, 2010, S. 48.
«Прощание Песни с землей», в: Ханс Волльшлегер. Другой материал. Фрагменты о Густаве Малере. СПб.: Jaromir Hladik press, 2021, с. 83.
В рецензии на запись «Парсифаля» 2012 г., цит. по: Parsifal and Christianity: is Wagner's opera a Christian work?
Это видно по книге Волльшлегера о Томасе Манне: «Свидание с д-м Ф. При перечитывании в последнее время» (Wiedersehen mit Dr. F. Beim Lesen in Letzter Zeit. Göttingen: Wallstein Verlag, 1997). Под «д-м Ф.» имеется в виду доктор Фаустус=Томас Манн.
Из только что опубликованной книги: Siegfried Unseld. Hundert Briefe. Mitteilungen eines Verlegers 1947-2002, hrsg. von Ulrike Anders und Jan Bürger. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2024.
Речь идет о первой повести Уве Йонсона, которая была отвергнута издательствами ГДР и впервые опубликована лишь в 1985 г. (издательством «Зуркамп»). Уве Йонсон (1934-1984) в 1959 г. переехал в Западный Берлин, в 1974-м – в Великобританию. Писатель-модернист, испытавший влияние Джойса, Фолкнера, французского «нового романа». Умер в полном одиночестве, в сельском домике, тело его обнаружили через три недели после кончины. На русский переведены только его повесть «Две точки зрения» и несколько рассказов.
Этот роман Уве Йонсона, «Догадки насчет Якоба», был издан в «Зуркампе» в 1959 г.
Мотивы из вагнеровского «Парсифаля»
в «Отростках сердца» Ханса Волльшлегера
Автор Татьяна Баскакова
Присмотреться к «Парсифалю» Вагнера (и пратексту этого произведения, «Парцифалю» Вольфрама фон Эшенбаха)1 — в связи с романом Ханса Волльшлегера2 — меня побудили три обстоятельства. Во-первых, я прочитала, что в Девятой симфонии Малера, играющей столь важную роль в романе, есть мотив колоколов — музыкальная цитата из «Парсифаля». Меня же всегда удивляли «постоянно звучащие» колокола в романе «Отростки сердца» — я бывала в Бамберге и ничего подобного в реальности, даже для 1950 года, представить себе не могла.
Во-вторых, занявшись в последнее время более пристальным изучением второй части романа Волльшлегера, неопубликованной и хранящейся — как машинопись — в Городской библиотеке Бамберга3, я пришла к выводу, что все лица, чьи фотографии или рисованные портреты вскользь упоминаются в романе в сцене первого посещения Адамсом мюнхенского дома Галланда(=Мефистофеля), имеют непосредственное отношение либо к сюжету «Отростков сердца», либо к структуре этого романа или его стилистическим особенностям.
В-третьих, при переводе первой части романа какие-то подробности сюжета остались для меня неясными, и мне захотелось вернуться к ним и попробовать их прояснить.
Вариантом постановки оперы, наиболее близким к интерпретации Волльшлегера, мне показался фильм Ханса-Юргена Зиберберга «Парсифаль» (1982). В качестве иллюстраций далее будут использоваться кадры из вышеназванного фильма.
К фотографии Вагнера внимание Адамса привлекает Галланд, причем ритуал причастия, о котором он говорит, изображается Вагнером именно в «Парсифале» (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 266-267):
...и я лучше позволю себе порекомендовать Вам висящий недалеко отсюда моментальный снимок композитора Р. Вагнера : тоже весьма редкий экземпляр, существованием коего мы обязаны садовому работнику на вилле Ванфрид… <…> ...передо мною в последние дни замаячила надежда на приобретение неизвестного, однако гарантированно подлинного снимка, который показывает упомянутого Вагнера, вместе с супругой, в момент получения ими святого причастия : удовольствие, которое, как Вам известно, даже побудило его к хвалебным изображениям сего ритуала…
Ремарка в либретто оперы к первому действию — «Лес, тенистый и величавый, но не мрачный. Скалистая почва.» — сразу же приводит на память не понятое мною место из самого начала волльшлегеровского романа, описание церкви напротив дома Адамса (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 16):
...я топтался возле окна : скелеты леса – покачивающиеся на дальнем плане – в бледной взвеси за приплюснутыми каменными массами : …. :– нелепо застывший и осерьезненный, располагался вокруг ландшафт : вокруг скального основания : обывательский и немецкий...
Дело в том, что церковь Спасителя (в романе она располагается в этом ландшафте) я видела и даже фотографировала, но находится она на городской набережной, никаких «скелетов леса» или «скального основания» там, конечно, нет. Зато скальное основание есть у расположенного в лесу замка Грааля, в постановке оперы 1917 года имевшего некоторое сходство с бамбергской церковью.
Во-вторых, занявшись в последнее время более пристальным изучением второй части романа Волльшлегера, неопубликованной и хранящейся — как машинопись — в Городской библиотеке Бамберга3, я пришла к выводу, что все лица, чьи фотографии или рисованные портреты вскользь упоминаются в романе в сцене первого посещения Адамсом мюнхенского дома Галланда(=Мефистофеля), имеют непосредственное отношение либо к сюжету «Отростков сердца», либо к структуре этого романа или его стилистическим особенностям.
В-третьих, при переводе первой части романа какие-то подробности сюжета остались для меня неясными, и мне захотелось вернуться к ним и попробовать их прояснить.
Вариантом постановки оперы, наиболее близким к интерпретации Волльшлегера, мне показался фильм Ханса-Юргена Зиберберга «Парсифаль» (1982). В качестве иллюстраций далее будут использоваться кадры из вышеназванного фильма.
К фотографии Вагнера внимание Адамса привлекает Галланд, причем ритуал причастия, о котором он говорит, изображается Вагнером именно в «Парсифале» (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 266-267):
...и я лучше позволю себе порекомендовать Вам висящий недалеко отсюда моментальный снимок композитора Р. Вагнера : тоже весьма редкий экземпляр, существованием коего мы обязаны садовому работнику на вилле Ванфрид… <…> ...передо мною в последние дни замаячила надежда на приобретение неизвестного, однако гарантированно подлинного снимка, который показывает упомянутого Вагнера, вместе с супругой, в момент получения ими святого причастия : удовольствие, которое, как Вам известно, даже побудило его к хвалебным изображениям сего ритуала…
Ремарка в либретто оперы к первому действию — «Лес, тенистый и величавый, но не мрачный. Скалистая почва.» — сразу же приводит на память не понятое мною место из самого начала волльшлегеровского романа, описание церкви напротив дома Адамса (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 16):
...я топтался возле окна : скелеты леса – покачивающиеся на дальнем плане – в бледной взвеси за приплюснутыми каменными массами : …. :– нелепо застывший и осерьезненный, располагался вокруг ландшафт : вокруг скального основания : обывательский и немецкий...
Дело в том, что церковь Спасителя (в романе она располагается в этом ландшафте) я видела и даже фотографировала, но находится она на городской набережной, никаких «скелетов леса» или «скального основания» там, конечно, нет. Зато скальное основание есть у расположенного в лесу замка Грааля, в постановке оперы 1917 года имевшего некоторое сходство с бамбергской церковью.
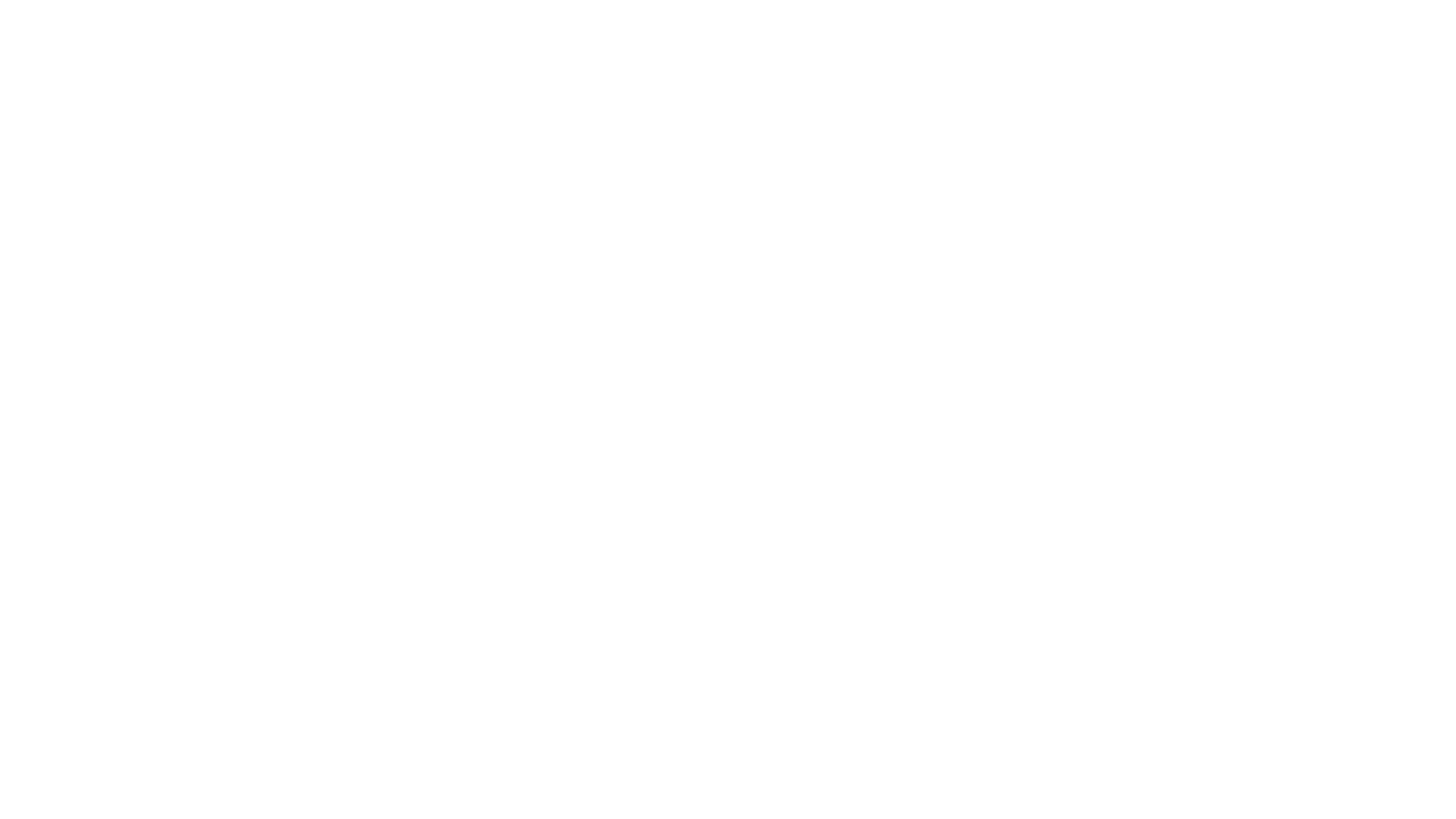
Илл. 1. Бамбергская церковь Спасителя (построена в 1934-м, разрушена в 1945-м, восстановлена в 1950-м).
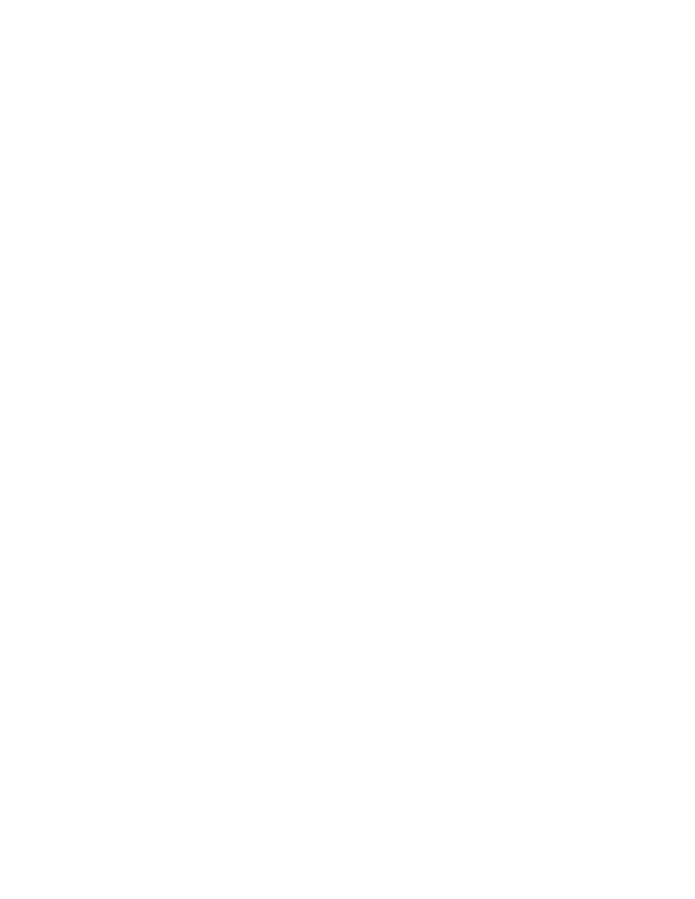
Илл. 2. Замок Грааля в постановке 1917 года.
А вот описание церкви напротив дома Адамса, какой ее изобразил — когда Адамс был еще подростком — некий Геринг (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 17):
...он [Геринг] лишь с трудом довел работу до последнего листа : мужественно оборонялся против остаточка своего же искусства, который всё превратил в карикатуру : этот глыбистый октогон — с дерзостно воздетым башенным пальцем рядом : и солнечные лучи, которые наверху соединялись в пучок, ореоблачно : монструозный монстранц вокруг голубой голубки: филиал мира и согласия…
«Солнечные лучи» находятся внутри, а не снаружи церкви: их изображает сам деревянный потолок.
...он [Геринг] лишь с трудом довел работу до последнего листа : мужественно оборонялся против остаточка своего же искусства, который всё превратил в карикатуру : этот глыбистый октогон — с дерзостно воздетым башенным пальцем рядом : и солнечные лучи, которые наверху соединялись в пучок, ореоблачно : монструозный монстранц вокруг голубой голубки: филиал мира и согласия…
«Солнечные лучи» находятся внутри, а не снаружи церкви: их изображает сам деревянный потолок.
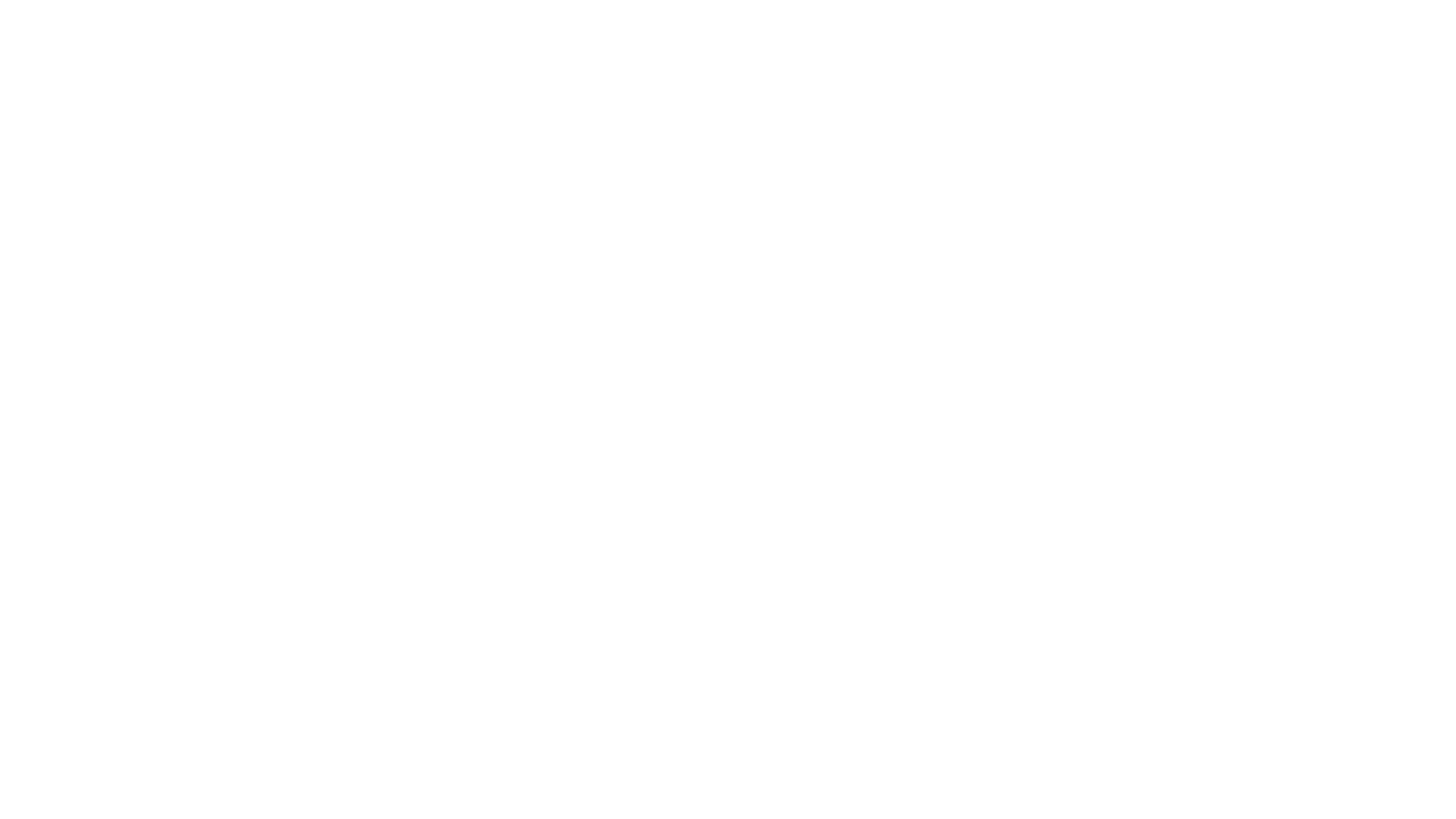
Илл. 3. Потолок Церкви Спасителя в Бамберге
А вот при чем здесь «голубка» (Taube), я раньше не понимала. Это можно понять из либретто к «Парсифалю».
Ремарка к последней части Первого действия, описание пути в замок:
(Гурнеманц и Парсифаль как-будто идут, в действительности же сама сцена незаметным образом — постепенно изменяется; движение декораций слева направо: лес исчезает, в стеноподобных утёсах открываются ворота, замыкающие в себе обоих путников; затем последние снова показываются в восходящих галереях и словно проходят их. — Раздаются постепенно нарастающие и долго выдерживаемые звуки тромбонов; слышен также приближающийся колокольный звон. — Наконец путники приходят в величественный зал с колоннами, осененный высокими сводами купола, пропадающего в вышине; свет проникает в зал только через этот купол. Оттуда же несётся возрастающий перезвон.)
Ремарка к последней части Первого действия, описание пути в замок:
(Гурнеманц и Парсифаль как-будто идут, в действительности же сама сцена незаметным образом — постепенно изменяется; движение декораций слева направо: лес исчезает, в стеноподобных утёсах открываются ворота, замыкающие в себе обоих путников; затем последние снова показываются в восходящих галереях и словно проходят их. — Раздаются постепенно нарастающие и долго выдерживаемые звуки тромбонов; слышен также приближающийся колокольный звон. — Наконец путники приходят в величественный зал с колоннами, осененный высокими сводами купола, пропадающего в вышине; свет проникает в зал только через этот купол. Оттуда же несётся возрастающий перезвон.)
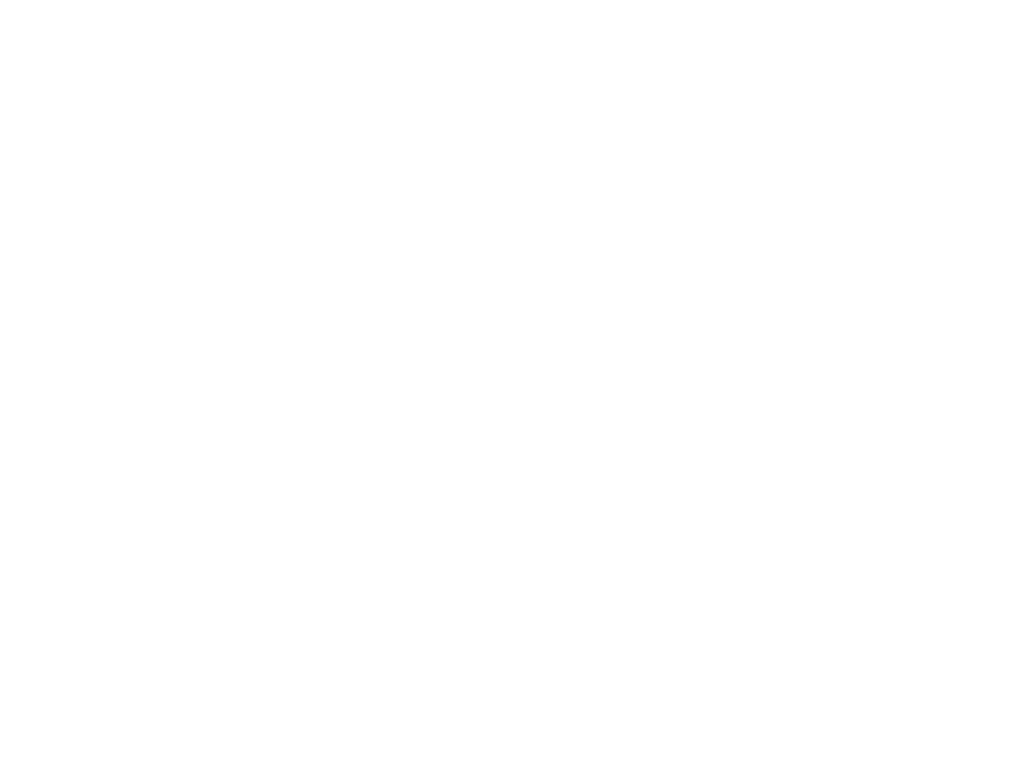
Илл. 4. Зал замка Грааля в первой постановке «Парсифаля», Байройт, 1898
В «Парсифале» Вагнера голубь (символ Святого Духа) неразрывно связан с храмом Грааля и даже изображен на плащах его рыцарей.
В Первом действии:
Голоса мальчиков
(с предельной высоты купола)
Здесь Веры Храм!
Здесь голубь к вам,
посол Христа, слетает!
Здесь всем дано
святое вино,
здесь Жизни хлеб всех питает!
И дальше говорится:
Вот час настал, —
И луч нисходит на святыню
святынь…
То есть Церковь Спасителя в романе предстает одновременно и как реальное здание, и как образ замка Грааля (или сам замок). Слово Taube мне надо было перевести как «голубь», а не «голубка».
Проникнуть в местность, где находится замок Грааля, может не каждый; рыцари Грааля названы в либретто (в Первом действии) «стражами сновидений».
Колокола (в опере) — призыв из скрывающегося в лесу замка Грааля, обращенный к тому, кто способен его расслышать.
В романе колокола появляются в первой же фразе дневника Адамса и звучат чуть ли не постоянно:
Уссул — одно из первых слов, которые когда-нибудь станут последними, звучащими из мертвых колоколов, деревянно выстукивающих в… (с. 12);
...и вряд ли еще слышался Vox Coelestis [= «Глас небесный»: один из органных регистров] в сумбуре колокольных бил и их отзвуков – здесь, что же : непрерывно звучат колокола? (с. 13).
Также колокола упоминаются на с. 28, 39, 40, 142, 153, 237, 261, 328, 433 (и в машинописной версии второй части романа).
Первые два события в опере — появление в священном лесу Кундри [=«Вестница»: придуманная Вагнером контаминация из нескольких женских образов «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха и ряда других мифологических персонажей] и юного Парсифаля, который с бессмысленной жестокостью убивает лебедя.
В Первом действии:
Голоса мальчиков
(с предельной высоты купола)
Здесь Веры Храм!
Здесь голубь к вам,
посол Христа, слетает!
Здесь всем дано
святое вино,
здесь Жизни хлеб всех питает!
И дальше говорится:
Вот час настал, —
И луч нисходит на святыню
святынь…
То есть Церковь Спасителя в романе предстает одновременно и как реальное здание, и как образ замка Грааля (или сам замок). Слово Taube мне надо было перевести как «голубь», а не «голубка».
Проникнуть в местность, где находится замок Грааля, может не каждый; рыцари Грааля названы в либретто (в Первом действии) «стражами сновидений».
Колокола (в опере) — призыв из скрывающегося в лесу замка Грааля, обращенный к тому, кто способен его расслышать.
В романе колокола появляются в первой же фразе дневника Адамса и звучат чуть ли не постоянно:
Уссул — одно из первых слов, которые когда-нибудь станут последними, звучащими из мертвых колоколов, деревянно выстукивающих в… (с. 12);
...и вряд ли еще слышался Vox Coelestis [= «Глас небесный»: один из органных регистров] в сумбуре колокольных бил и их отзвуков – здесь, что же : непрерывно звучат колокола? (с. 13).
Также колокола упоминаются на с. 28, 39, 40, 142, 153, 237, 261, 328, 433 (и в машинописной версии второй части романа).
Первые два события в опере — появление в священном лесу Кундри [=«Вестница»: придуманная Вагнером контаминация из нескольких женских образов «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха и ряда других мифологических персонажей] и юного Парсифаля, который с бессмысленной жестокостью убивает лебедя.
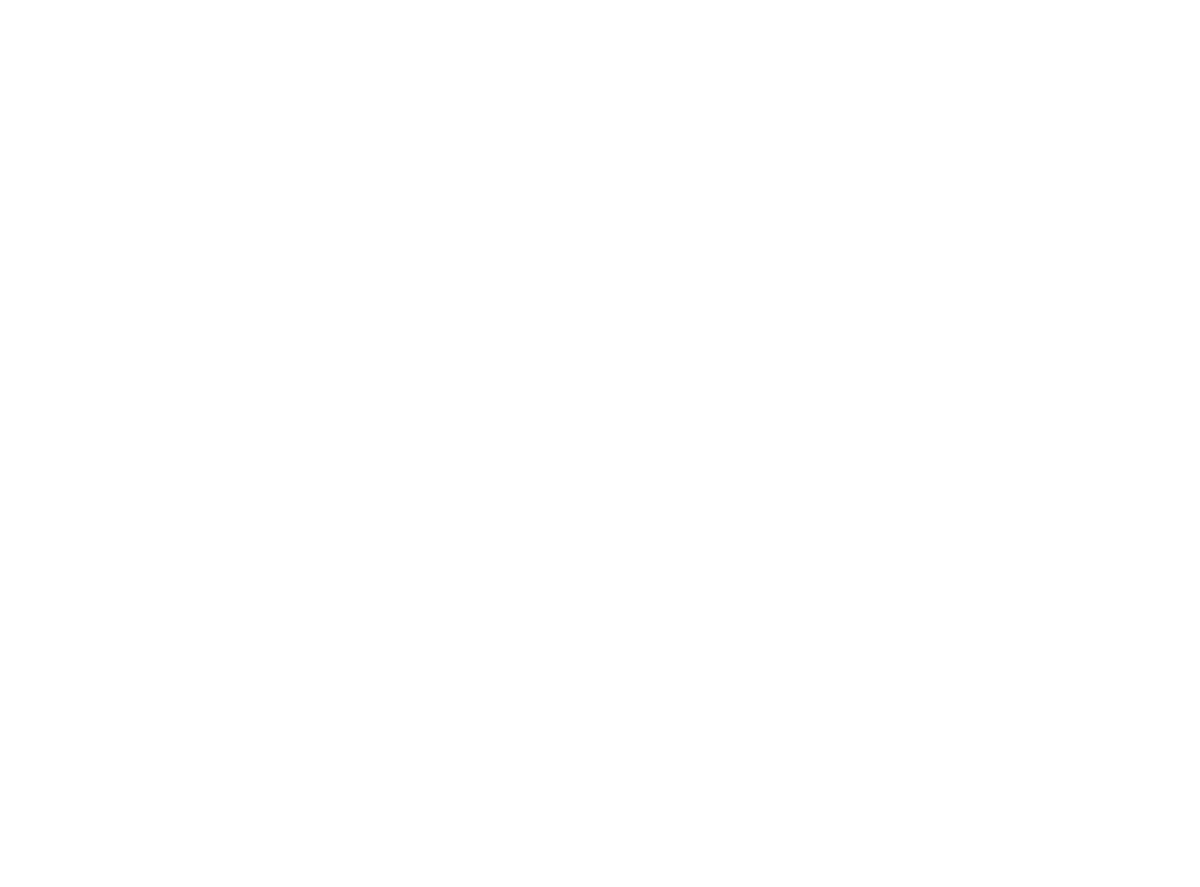
Илл. 5. Фильм Зиберберга: убитый лебедь, Кундри, Парсифаль и рыцарь Гурнеманц
В «Отростках сердца» в птицу стреляет некий неизвестный — или все же это Адамс вспоминает собственное детство? (с. 64):
резко щелкнувший выстрел, — там : и вправду кто-то стрельнул — несколько дней назад : незримо, под это Т..т,т.. : в саду — оно : какой-то болван стреляет по воробьям, какой-то недочеловек — убогий, пубертатный, одержимый смертью…
В машинописи второй части романа, в Пятой главе, упоминаются убийства лебедей, совершаемые в наше время:
места немецкой культуры : на берегу Регница опять обнаружили двух зверски обезглавленных лебедей : и ни следа злоумышленников — они, возможно, живут среди нас...
Образ Кундри в опере очень сложный: она — бессмертное существо, являющееся то в образе усталой (желающей только спать, но и помогающей рыцарям Грааля) старухи, то в образе прекрасной женщины, околдованной злым волшебником Клингзором и подчиняющейся ему. Она соблазняет хранителя Грааля Амфортаса (в результате чего он и получает неисцелимую рану); утешает, как мать, убившего лебедя — и раскаявшегося в этом — юного Парсифаля, а после по приказу Клингзора пытается его соблазнить, но влюбляется в него, долго разыскивает, принимает от него крещение и после этого умирает.
Первое появление Кундри в опере описывается странно (подчеркивания мои. — Т. Б.):
Первый паж
(повернувшись вместе со вторым пажом к заднему плану и глядя направо)
Смотри! Дикарка мчится к нам! (Seht dort die wilde Reiterin!, букв. «Смотрите на дикую всадницу вон там!»)
Второй паж
Ха! Летает по ветру грива лошадки! (Hei! Wie fliegen der Teufelsmähre die Mähnen!, букв.: «Ха, Смотрите, как у этой клячи дьявола разлетается грива!») ….
Первый паж
А конь задохся! (Die Mähre taumelt., букв.: «Эта кляча шатается»)
Второй паж
Мчался в облаках! (Flog sie durch die Luft?, букв.: «Она что, летела по воздуху?») ….
Первый рыцарь
Вот спрыгнула Кундри с коня! (Da schwingt sich die Wilde herab!, букв.: «Вот эта дикарка слетает/спускается/спрыгивает вниз»).
(Кундри торопливо устремляется на сцену, почти шатаясь (fast taumelnd). Дикое одеяние, высоко подобранное; пояс из змеиных кож с длинными концами. Распущенные косы волос развеваются в беспорядке; тёмный, медно-красный цвет лица, острый взгляд чёрных глаз, по временам дико сверкающий, чаще же пристальный и мертвенно-неподвижный.
То есть: лошадь Кундри здесь вообще не упоминается. Ханс Циммерман в своих содержательных комментариях к либретто «Парсифаля»4 комментирует это место так:
Кундри как персонификация природы, а не просто дикое природное существо, наделенное особой силой соблазна, ясновидения и целительства : она «летит и мчится» по воздуху как валькирия, как Дикая охота Одина, как дух ветра и непогоды.
В Первом действии «Парсифаля» Кундри характеризуется как «Язычница, волшебница…» (Eine Heidin ist's, ein Zauberweib.).
В начале Второго действия волшебник Клингзор, сидя «перед металлическим зеркалом», пробуждает Кундри от сна (подчеркивание мое. – Т. Б.):
Восстань от сна; – ты, цвет соблазна (Namenlose, букв. «Безымянная»)! Дочь дьявола! Роза ада! (Urteufelin [=Древнейшая Дьяволица], Höllenrose!) Иродиадой была ты, — кем ещё? Гундрижиа там, — Кундри здесь!
Имя Гундрижиа придумано Вагнером (составлено из древнескандинавских корней). В дневнике жены Вагнера, Козимы, есть запись (от 14 марта 1877): «За ланчем Р. [Вагнер] говорит мне: „Она будет зваться Гундрижиа, ткачиха войны“, но потом он решает остановиться на Кундри». В скандинавской мифологии известна Гунн, одна из любимых валькирий Одина. В немецкой народной традиции и Иродиада, и валькирии причисляются к Дикой охоте, а Иродиада иногда идентифицируется с Фрау Хольдой (Венерой). Генрих Гейне, чью поэзию Вагнер любил и знал, в поэме «Атта Троль» воспроизводит эту народную традицию, отождествляя Иродиаду с Саломеей. В переводе Николая Гумилева:
Да, она была и вправду
Иудейскою царицей,
Ирода женой, просившей
Головы Иоканаана.
И была она за это
Тоже проклята, — как призрак,
Вплоть до страшного суда
Будет мчаться на охоту.
По мнению Ханса Циммермана, «многие имена Кундри описывают некую цепь реинкарнаций» — и именно поэтому ее атрибутом является «пояс из змеиных кож» (потому что змеи подвержены линьке).
В первой версии «Отростков сердца», в конце Четвертой главы, Адамс, возвращаясь из короткого путешествия с признавшейся в своей беременности Лиз, думает о ней:
Имена – (прозрачные свято-языческие : в похотливо-вегетирующем кругу деревьев –: клинописно выписывали вокруг нее колы –) : Аширту – Иштар – Атаргатис – (смотрит неподвижно среди них : и опять – совершенная Мадонна : как будто она услышала –: еще ничего – не заметно : конец второго месяца… <...>
...больше терпения – чтобы вытерпеть этот взгляд :– и никаких угрызений совести –? : Конец – это : это чистая проституция — священная или нет : «Мадам – я –» : взгляд) – Ашера – (Нана – она : обернулась : она застыла столбом –)
Еще раньше он думал о ней:
(лишь потому, что она мать всего живого : смехотворное ЕВА-евангелие : Хавва : не что иное, как «змея» — в дважды-пустынных местах : а сверх того – не что иное, как «баба»)
Традиционная этимология возводит имя Ева (Хавва) к еврейскому хаим «жизнь». Современные исследователи предполагают связь с финикийским словом хвт и арамейским Хевъя, означающим «змея» (или – змееподобная богиня).
В первой версии романа Элизабет Горски — Лиз — несколько раз появляется, «одетая в красную кожу»5, причем слово «кожа» (Haut) может относиться только к коже человека или змеи, а не к той коже, из которой шьют одежду (та кожа — Leder).
Сам Вагнер писал о замысле своей оперы (королю Людвигу II, 7.9.1865): «Мой дорогой, могу ли я говорить о столь глубоких материях иначе чем в притче, посредством сравнения? <...> Адам — Ева: Христос. - что если мы подставим к ним: – „Анфортас – Кундри: Парсифаль?“ Но только — с большой осторожностью!»
В романе Волльшлегера Лиз создает «волшебные» рисунки, на которых, например, сквозь современный вид одной лейпцигской площади просвечивают здания той же площади во времена Баха и в другие исторические эпохи. Или — рисунки со штриховкой и белыми пятнами, если приглядеться к которым, обнаруживается мир мертвых.
резко щелкнувший выстрел, — там : и вправду кто-то стрельнул — несколько дней назад : незримо, под это Т..т,т.. : в саду — оно : какой-то болван стреляет по воробьям, какой-то недочеловек — убогий, пубертатный, одержимый смертью…
В машинописи второй части романа, в Пятой главе, упоминаются убийства лебедей, совершаемые в наше время:
места немецкой культуры : на берегу Регница опять обнаружили двух зверски обезглавленных лебедей : и ни следа злоумышленников — они, возможно, живут среди нас...
Образ Кундри в опере очень сложный: она — бессмертное существо, являющееся то в образе усталой (желающей только спать, но и помогающей рыцарям Грааля) старухи, то в образе прекрасной женщины, околдованной злым волшебником Клингзором и подчиняющейся ему. Она соблазняет хранителя Грааля Амфортаса (в результате чего он и получает неисцелимую рану); утешает, как мать, убившего лебедя — и раскаявшегося в этом — юного Парсифаля, а после по приказу Клингзора пытается его соблазнить, но влюбляется в него, долго разыскивает, принимает от него крещение и после этого умирает.
Первое появление Кундри в опере описывается странно (подчеркивания мои. — Т. Б.):
Первый паж
(повернувшись вместе со вторым пажом к заднему плану и глядя направо)
Смотри! Дикарка мчится к нам! (Seht dort die wilde Reiterin!, букв. «Смотрите на дикую всадницу вон там!»)
Второй паж
Ха! Летает по ветру грива лошадки! (Hei! Wie fliegen der Teufelsmähre die Mähnen!, букв.: «Ха, Смотрите, как у этой клячи дьявола разлетается грива!») ….
Первый паж
А конь задохся! (Die Mähre taumelt., букв.: «Эта кляча шатается»)
Второй паж
Мчался в облаках! (Flog sie durch die Luft?, букв.: «Она что, летела по воздуху?») ….
Первый рыцарь
Вот спрыгнула Кундри с коня! (Da schwingt sich die Wilde herab!, букв.: «Вот эта дикарка слетает/спускается/спрыгивает вниз»).
(Кундри торопливо устремляется на сцену, почти шатаясь (fast taumelnd). Дикое одеяние, высоко подобранное; пояс из змеиных кож с длинными концами. Распущенные косы волос развеваются в беспорядке; тёмный, медно-красный цвет лица, острый взгляд чёрных глаз, по временам дико сверкающий, чаще же пристальный и мертвенно-неподвижный.
То есть: лошадь Кундри здесь вообще не упоминается. Ханс Циммерман в своих содержательных комментариях к либретто «Парсифаля»4 комментирует это место так:
Кундри как персонификация природы, а не просто дикое природное существо, наделенное особой силой соблазна, ясновидения и целительства : она «летит и мчится» по воздуху как валькирия, как Дикая охота Одина, как дух ветра и непогоды.
В Первом действии «Парсифаля» Кундри характеризуется как «Язычница, волшебница…» (Eine Heidin ist's, ein Zauberweib.).
В начале Второго действия волшебник Клингзор, сидя «перед металлическим зеркалом», пробуждает Кундри от сна (подчеркивание мое. – Т. Б.):
Восстань от сна; – ты, цвет соблазна (Namenlose, букв. «Безымянная»)! Дочь дьявола! Роза ада! (Urteufelin [=Древнейшая Дьяволица], Höllenrose!) Иродиадой была ты, — кем ещё? Гундрижиа там, — Кундри здесь!
Имя Гундрижиа придумано Вагнером (составлено из древнескандинавских корней). В дневнике жены Вагнера, Козимы, есть запись (от 14 марта 1877): «За ланчем Р. [Вагнер] говорит мне: „Она будет зваться Гундрижиа, ткачиха войны“, но потом он решает остановиться на Кундри». В скандинавской мифологии известна Гунн, одна из любимых валькирий Одина. В немецкой народной традиции и Иродиада, и валькирии причисляются к Дикой охоте, а Иродиада иногда идентифицируется с Фрау Хольдой (Венерой). Генрих Гейне, чью поэзию Вагнер любил и знал, в поэме «Атта Троль» воспроизводит эту народную традицию, отождествляя Иродиаду с Саломеей. В переводе Николая Гумилева:
Да, она была и вправду
Иудейскою царицей,
Ирода женой, просившей
Головы Иоканаана.
И была она за это
Тоже проклята, — как призрак,
Вплоть до страшного суда
Будет мчаться на охоту.
По мнению Ханса Циммермана, «многие имена Кундри описывают некую цепь реинкарнаций» — и именно поэтому ее атрибутом является «пояс из змеиных кож» (потому что змеи подвержены линьке).
В первой версии «Отростков сердца», в конце Четвертой главы, Адамс, возвращаясь из короткого путешествия с признавшейся в своей беременности Лиз, думает о ней:
Имена – (прозрачные свято-языческие : в похотливо-вегетирующем кругу деревьев –: клинописно выписывали вокруг нее колы –) : Аширту – Иштар – Атаргатис – (смотрит неподвижно среди них : и опять – совершенная Мадонна : как будто она услышала –: еще ничего – не заметно : конец второго месяца… <...>
...больше терпения – чтобы вытерпеть этот взгляд :– и никаких угрызений совести –? : Конец – это : это чистая проституция — священная или нет : «Мадам – я –» : взгляд) – Ашера – (Нана – она : обернулась : она застыла столбом –)
Еще раньше он думал о ней:
(лишь потому, что она мать всего живого : смехотворное ЕВА-евангелие : Хавва : не что иное, как «змея» — в дважды-пустынных местах : а сверх того – не что иное, как «баба»)
Традиционная этимология возводит имя Ева (Хавва) к еврейскому хаим «жизнь». Современные исследователи предполагают связь с финикийским словом хвт и арамейским Хевъя, означающим «змея» (или – змееподобная богиня).
В первой версии романа Элизабет Горски — Лиз — несколько раз появляется, «одетая в красную кожу»5, причем слово «кожа» (Haut) может относиться только к коже человека или змеи, а не к той коже, из которой шьют одежду (та кожа — Leder).
Сам Вагнер писал о замысле своей оперы (королю Людвигу II, 7.9.1865): «Мой дорогой, могу ли я говорить о столь глубоких материях иначе чем в притче, посредством сравнения? <...> Адам — Ева: Христос. - что если мы подставим к ним: – „Анфортас – Кундри: Парсифаль?“ Но только — с большой осторожностью!»
В романе Волльшлегера Лиз создает «волшебные» рисунки, на которых, например, сквозь современный вид одной лейпцигской площади просвечивают здания той же площади во времена Баха и в другие исторические эпохи. Или — рисунки со штриховкой и белыми пятнами, если приглядеться к которым, обнаруживается мир мертвых.
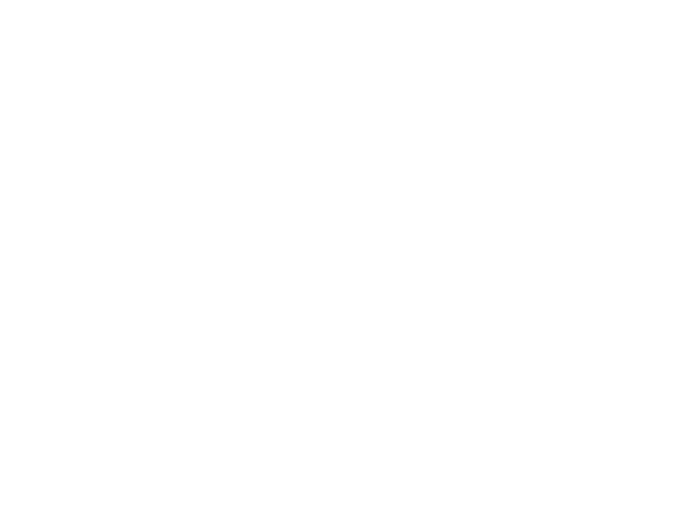
Илл. 6. Юдит Керр, дочь Альфреда Керра (одного из прототипов Адамса),
английская художница и писательница, — возможный прототип Лиз Риттбергер
английская художница и писательница, — возможный прототип Лиз Риттбергер
О замке же Грааля Гурнеманц, когда ведет туда Парсифаля, говорит: «в пространстве время здесь!..» (на самом деле: «Время здесь становится пространством»: ...zum Raum wird hier die Zeit.)
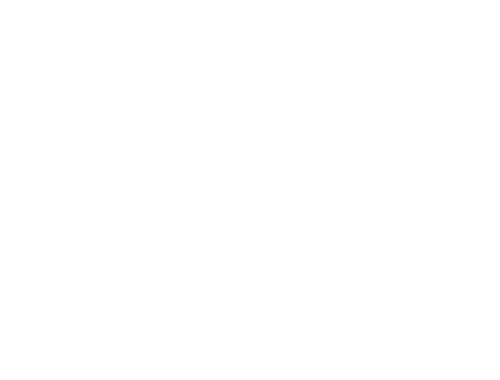
Илл. 7. Фильм Зиберберга: Гурнеманц ведет Парсифаля в замок Грааля сквозь слои
немецкой истории, которые символизируются разными флагами
немецкой истории, которые символизируются разными флагами
В романе Волльшлегера Элизабет (Лиз) Горски (Э.ГО, нем. E.R., Элизабет Риттбергер [в русском переводе — Элизабет Горски]) и Галланд (ЭГО, нем. ER, «ОН») появляются —впервые — одновременно, когда Адамс смотрит на себя в зеркало (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 68; выделение полужирным шрифтом мое. — Т. Б.):
себя самого глазами других — я : долго, прищурившись, мутно глядел в свое лицо : стар — мои глаза плохи : может быть, для меня вообще нет худших глаз, чем эти, – и риска тут на грош : может быть, вообще не существует меньшего риска — чем этот, на Г –:– Волна красноты – оглушительно захлестнула : превратилась в серое морщинистое лицо — к он : но он не исчез – они кто они ис : чезать не намеревались – так и остались, вплотную друг за другом, — преследуя меня по пятам : поскольку и оптика тоже имеет стопы́ — легкие и тяжелые, — мы : сумбурны — нескладны, – они : это ЭГО и Э.ГО — никогда не имели между собой ничего общего : мои глаза теперь — как? они теперь
В романе Волльшлегера образу Кундри могут соответствовать — сразу — старая фрау Элизабет Зимон (не она ли показывается в зеркале первой, как «серое морщинистое лицо»?) и возлюбленная Адамса (а также Мефистофеля-Галланда и/или ученика Адамса?) Элизабет Риттбергер (эта фамилия как бы намекает на скачку [верхом на ком-то/чем-то], Ritt, и горы, Berge).
И еще одна цитата — о фрау Зимон (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 145-146; выделения полужирным шрифтом мои. — Т. Б.):
ясность — самоисповедь — само-отграничивание — что? : «– что же это такое, фрау Зимон — вот здесь –, перебив самого себя, — и протянул ей, весьма озадаченный, пораненный палец, на котором выступила крупная капля крови –: вся скатерть сплошь утыкана швейными иглами — одна рядом с другой, «от мала до велика» : «Ах, это просто — чтобы они всегда были под рукой –» : и много торопливых извинений – «– я думала — поскольку ко мне в любом случае никогда не приходят гости –» : и она еще долго еще долго сидела молча, после того как я ее успокоил : как само Злосчастье — во плоти — старая, подавленная, поникшая : морщинисто держа перед собой остатки кожуры печеного яблока, между туго зашнурованными грудями, — я : вдруг, внезапно между сухими секундами, увидел ужасное Г, как Грозящее Оцепенение, как если бы кровь, Bl ut aliquid fiat, должна была на тарелку — что же? — струясь, изливаясь : втекая в это видение — и опять из него истекая — я : неотрывно смотрел, полумертвый на какие-то секунды, в начинающееся разложе — чтó — чье же? : в уже начавшееся увядание — медленное иссыхание живого –: как сброшенная змеиная кожа, в которой оно — что, иссохшее — молоко, которое — « – что –?» : <…> ... –: «Да, если мы, фрау Зимон, захотим всё это подвести под одно понятие — затолкать в одно слово много разных чувств –», и я, усталый, снова извивался, преодолевая этот расплывающийся поток –: «– если целый народ — целый культурный ландшафт — во всех его жизненных проявлениях — уже выступил в Великий поход, который, как я попытался Вам объяснить, представляет собой психическую регрессию –» : если они снова уподобляются детям, чтобы прийти в Царство Божие : если опять погружаются в амнезию, из которой их слабенькое Я когда-то, ценой довольно-таки больших усилий, вынырнуло, и их история становится для них не поддающейся вспоминанию… <…> : «– это : китч, фрау Зимон – китч –» : всеобъемлющее Последнее перед возвращением в Ничто :– «– ах нет, этого Вы не можете понять — я : и сам этого пока не понимаю –» того, что я на какую-то долю мгновения у — и снова потерял : не вижу этого больше — в более черной теперь тишине ее лица : глубоко в эт в этой черно в Правде архаического Бессознательного покоящееся основание некоей холод ледяной горы, лишь холодная вершина которой над водами лицемерия –: ….
Это очень примечательный — в нескольких отношениях — отрывок.
Во-первых, в нем уже имеются некоторые основания для отождествления фрау Зимон с «архаическим Бессознательным» (символом которого и является — для Ханса Волльшлегера — «скальное основание» или «ледяная гора»?)
Во-вторых, в главном пратексте вагнеровского «Парсифаля», «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха, один из центральных лейтмотивов — три капли крови (убитого гуся), которые Парцифаль видит на снегу и которые ввергают его в оцепенение, потому что пробуждают память о покинутой им любимой жене (Вольфрам, Парцифаль, с. 160):
«...Твой лик, поклясться я готов,
Есть сочетанье двух цветов,
двух красок: белой краски с красной!
Конд-ви-ра-мур!..» И вдруг безгласный
В сердечной боли он застыл,
Лишившийся душевных сил,
Как если б потерял сознанье...
Тут же он оказывается вынужденным вступить в поединок; потом попадает, в изодранной одежде, ко двору короля Артура, где одна из дам дарит ему трофейный меховой плащ и, поскольку шнурок от этого плаща потерян, — шнуровку со своей груди. Очень скоро появляется волшебница Кундри и при всех обвиняет его в том, что он не выказал сострадания (не помог) несчастному королю Грааля Анфортасу...
Но у Волльшлегера Адамс вспоминает здесь не свою любовь, а скорее пришедшее в упадок «рыцарство Грааля». Потому что кровь, стекающая на тарелку, напоминает о таинстве пресуществления хранимой в Граале крови Христовой в саму субстанцию жизни (духовных и телесных сил), которой в буквальном смысле питаются (и потому сохраняют вечную молодость) вагнеровские рыцари Грааля (конец Первого действия оперы: «Это вино / новым огнём / в крови борцов разольется, / даст нам оно / силу с врагом / во Имя Христово бороться!»).
Процитированная сцена волльшлегеровского романа пронизана ощущениями оцепенения, бесплодия, «иссыхания живого», что отсылает к повторяющимся состояниям тяжелого сна Кундри в опере Вагнера. Ханс Циммерман истолковывает эти состояния так:
Этот образный мотив «оцепеневшей» (erstarrt), «спящей, как труп холодный» (leblos, wie tot), которую находят в пассивном состоянии, усиливает представление о характере Кундри в «Парсифале» как о персонификации Природы как таковой: втянутая в грехопадение — или, согласно толкованию Треврицента: оскверненная братоубийством Каина, — Земля теряет свою райскую невинность, порождает вместо молока и меда терновник и чертополох, становится сухой, пыльной и каменистой, утрачивает свою прозрачную познаваемость: подлинные первопричинные силы пребывают теперь в сокрытости; познающему сознанию показывантся теперь только материально-застывший, пассивный мир внешней видимости.
Тревицент — отшельник в романе Вольфрама фон Эшенбаха, наставляющий Парцифаля. Циммерман имеет в виду такие его слова (Вольфрам, Парцифаль, с. 230; курсив оригинала. — Т. Б.):
Земля, что девственно цвела,
Адаму матерью была,
Ну, а причиной срама
Стал Каин, сын Адама!
Когда он Авеля убил,
Он землю кровью обагрил,
И, кровью орошенная,
Невинности лишенная,
Земля от внука зачала
Первоисточник земного зла.
И это означало
Всех наших бед начало…
Наконец, упоминаемые в процитированном абзаце иголки, об одну из которых колется Адамс, отсылают к реплике еврея Шейлока из «Венецианского купца» У. Шекспира (Действие III, сцена 1; перевод Т. А. Щепкиной-Куперник; выделение полужирным шрифтом мое. — Т. Б.):
… Разве у жида нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть — разве у нас не идет кровь?
Шейлок, вспоминая о нанесенных ему обидах, пытается таким образом оправдать преступление, которое собирается совершить: он хочет срéзать с тела своего обидчика, живого, фунт мяса, то есть формулирует принцип «око за око, зуб за зуб».
У Вольфрама фон Эшенбаха в конце романа (Вольфрам, Парцифаль, с. 331), после того как Парцифаль спасает короля Анфортаса и сам становится хранителем Грааля, он встречается со своей любимой и надолго покинутой супругой именно на том месте, где когда-то увидел на снегу три капли крови; теперь это место превратилось в цветущий (райский) луг (появляющийся и в финале вагнеровской оперы):
За королевою супруг
Пришел на тот заветный луг,
Где он, судьбе не прекословя,
Узрел три алых капли крови
На свежевыпавшем снегу...
В процитированном отрывке из «Отростков сердца» Адамс задумывается о памяти своих соотечественников — точнее, об отсутствии у них памяти, касающейся недавних событий нацистского и военного прошлого — и об их инфантильном желании уподобиться (в смысле освобождения себя от всякой ответственности) детям.
Желание Адамса, как писателя, влиять на своих соотечественников и вообще современников приводит его к контактам с (Мефистофелем=)Галландом, а затем и к зависимости от него. Галланд у Волльшлегера имеет и черты волшебника Клингзора из вагнеровского «Парсифаля» — потому что он тесно связан с Лиз Риттбергер (Кундри) и потому что, как и Клингзор, обладает собственными волшебными пространствами. Это может быть дом в Мюнхене, куда он приглашает Адамса, или пивная, где он часто бывает и которая в первой версии романа является конкретным питейным заведением на окраине Бамберга, в Буге, «Приютом Хоффмана», владелец которого — художник-самоучка и бывший нацистский солдат Фриц Хоффманн-Буг (1915-1997) – расписывал его стены картинами, подобными описанным в романе (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 113-114):
поперек и через тусклое надувательство настенных красок : кулис на известковой основе : мелкобуржуазно-непристойных и дилетантских, — мы : сидели тогда под оглушительно-красными змеями : единственным абстрактным сграффито посреди всей этой натужной предметности...
себя самого глазами других — я : долго, прищурившись, мутно глядел в свое лицо : стар — мои глаза плохи : может быть, для меня вообще нет худших глаз, чем эти, – и риска тут на грош : может быть, вообще не существует меньшего риска — чем этот, на Г –:– Волна красноты – оглушительно захлестнула : превратилась в серое морщинистое лицо — к он : но он не исчез – они кто они ис : чезать не намеревались – так и остались, вплотную друг за другом, — преследуя меня по пятам : поскольку и оптика тоже имеет стопы́ — легкие и тяжелые, — мы : сумбурны — нескладны, – они : это ЭГО и Э.ГО — никогда не имели между собой ничего общего : мои глаза теперь — как? они теперь
В романе Волльшлегера образу Кундри могут соответствовать — сразу — старая фрау Элизабет Зимон (не она ли показывается в зеркале первой, как «серое морщинистое лицо»?) и возлюбленная Адамса (а также Мефистофеля-Галланда и/или ученика Адамса?) Элизабет Риттбергер (эта фамилия как бы намекает на скачку [верхом на ком-то/чем-то], Ritt, и горы, Berge).
И еще одна цитата — о фрау Зимон (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 145-146; выделения полужирным шрифтом мои. — Т. Б.):
ясность — самоисповедь — само-отграничивание — что? : «– что же это такое, фрау Зимон — вот здесь –, перебив самого себя, — и протянул ей, весьма озадаченный, пораненный палец, на котором выступила крупная капля крови –: вся скатерть сплошь утыкана швейными иглами — одна рядом с другой, «от мала до велика» : «Ах, это просто — чтобы они всегда были под рукой –» : и много торопливых извинений – «– я думала — поскольку ко мне в любом случае никогда не приходят гости –» : и она еще долго еще долго сидела молча, после того как я ее успокоил : как само Злосчастье — во плоти — старая, подавленная, поникшая : морщинисто держа перед собой остатки кожуры печеного яблока, между туго зашнурованными грудями, — я : вдруг, внезапно между сухими секундами, увидел ужасное Г, как Грозящее Оцепенение, как если бы кровь, Bl ut aliquid fiat, должна была на тарелку — что же? — струясь, изливаясь : втекая в это видение — и опять из него истекая — я : неотрывно смотрел, полумертвый на какие-то секунды, в начинающееся разложе — чтó — чье же? : в уже начавшееся увядание — медленное иссыхание живого –: как сброшенная змеиная кожа, в которой оно — что, иссохшее — молоко, которое — « – что –?» : <…> ... –: «Да, если мы, фрау Зимон, захотим всё это подвести под одно понятие — затолкать в одно слово много разных чувств –», и я, усталый, снова извивался, преодолевая этот расплывающийся поток –: «– если целый народ — целый культурный ландшафт — во всех его жизненных проявлениях — уже выступил в Великий поход, который, как я попытался Вам объяснить, представляет собой психическую регрессию –» : если они снова уподобляются детям, чтобы прийти в Царство Божие : если опять погружаются в амнезию, из которой их слабенькое Я когда-то, ценой довольно-таки больших усилий, вынырнуло, и их история становится для них не поддающейся вспоминанию… <…> : «– это : китч, фрау Зимон – китч –» : всеобъемлющее Последнее перед возвращением в Ничто :– «– ах нет, этого Вы не можете понять — я : и сам этого пока не понимаю –» того, что я на какую-то долю мгновения у — и снова потерял : не вижу этого больше — в более черной теперь тишине ее лица : глубоко в эт в этой черно в Правде архаического Бессознательного покоящееся основание некоей холод ледяной горы, лишь холодная вершина которой над водами лицемерия –: ….
Это очень примечательный — в нескольких отношениях — отрывок.
Во-первых, в нем уже имеются некоторые основания для отождествления фрау Зимон с «архаическим Бессознательным» (символом которого и является — для Ханса Волльшлегера — «скальное основание» или «ледяная гора»?)
Во-вторых, в главном пратексте вагнеровского «Парсифаля», «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха, один из центральных лейтмотивов — три капли крови (убитого гуся), которые Парцифаль видит на снегу и которые ввергают его в оцепенение, потому что пробуждают память о покинутой им любимой жене (Вольфрам, Парцифаль, с. 160):
«...Твой лик, поклясться я готов,
Есть сочетанье двух цветов,
двух красок: белой краски с красной!
Конд-ви-ра-мур!..» И вдруг безгласный
В сердечной боли он застыл,
Лишившийся душевных сил,
Как если б потерял сознанье...
Тут же он оказывается вынужденным вступить в поединок; потом попадает, в изодранной одежде, ко двору короля Артура, где одна из дам дарит ему трофейный меховой плащ и, поскольку шнурок от этого плаща потерян, — шнуровку со своей груди. Очень скоро появляется волшебница Кундри и при всех обвиняет его в том, что он не выказал сострадания (не помог) несчастному королю Грааля Анфортасу...
Но у Волльшлегера Адамс вспоминает здесь не свою любовь, а скорее пришедшее в упадок «рыцарство Грааля». Потому что кровь, стекающая на тарелку, напоминает о таинстве пресуществления хранимой в Граале крови Христовой в саму субстанцию жизни (духовных и телесных сил), которой в буквальном смысле питаются (и потому сохраняют вечную молодость) вагнеровские рыцари Грааля (конец Первого действия оперы: «Это вино / новым огнём / в крови борцов разольется, / даст нам оно / силу с врагом / во Имя Христово бороться!»).
Процитированная сцена волльшлегеровского романа пронизана ощущениями оцепенения, бесплодия, «иссыхания живого», что отсылает к повторяющимся состояниям тяжелого сна Кундри в опере Вагнера. Ханс Циммерман истолковывает эти состояния так:
Этот образный мотив «оцепеневшей» (erstarrt), «спящей, как труп холодный» (leblos, wie tot), которую находят в пассивном состоянии, усиливает представление о характере Кундри в «Парсифале» как о персонификации Природы как таковой: втянутая в грехопадение — или, согласно толкованию Треврицента: оскверненная братоубийством Каина, — Земля теряет свою райскую невинность, порождает вместо молока и меда терновник и чертополох, становится сухой, пыльной и каменистой, утрачивает свою прозрачную познаваемость: подлинные первопричинные силы пребывают теперь в сокрытости; познающему сознанию показывантся теперь только материально-застывший, пассивный мир внешней видимости.
Тревицент — отшельник в романе Вольфрама фон Эшенбаха, наставляющий Парцифаля. Циммерман имеет в виду такие его слова (Вольфрам, Парцифаль, с. 230; курсив оригинала. — Т. Б.):
Земля, что девственно цвела,
Адаму матерью была,
Ну, а причиной срама
Стал Каин, сын Адама!
Когда он Авеля убил,
Он землю кровью обагрил,
И, кровью орошенная,
Невинности лишенная,
Земля от внука зачала
Первоисточник земного зла.
И это означало
Всех наших бед начало…
Наконец, упоминаемые в процитированном абзаце иголки, об одну из которых колется Адамс, отсылают к реплике еврея Шейлока из «Венецианского купца» У. Шекспира (Действие III, сцена 1; перевод Т. А. Щепкиной-Куперник; выделение полужирным шрифтом мое. — Т. Б.):
… Разве у жида нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть — разве у нас не идет кровь?
Шейлок, вспоминая о нанесенных ему обидах, пытается таким образом оправдать преступление, которое собирается совершить: он хочет срéзать с тела своего обидчика, живого, фунт мяса, то есть формулирует принцип «око за око, зуб за зуб».
У Вольфрама фон Эшенбаха в конце романа (Вольфрам, Парцифаль, с. 331), после того как Парцифаль спасает короля Анфортаса и сам становится хранителем Грааля, он встречается со своей любимой и надолго покинутой супругой именно на том месте, где когда-то увидел на снегу три капли крови; теперь это место превратилось в цветущий (райский) луг (появляющийся и в финале вагнеровской оперы):
За королевою супруг
Пришел на тот заветный луг,
Где он, судьбе не прекословя,
Узрел три алых капли крови
На свежевыпавшем снегу...
В процитированном отрывке из «Отростков сердца» Адамс задумывается о памяти своих соотечественников — точнее, об отсутствии у них памяти, касающейся недавних событий нацистского и военного прошлого — и об их инфантильном желании уподобиться (в смысле освобождения себя от всякой ответственности) детям.
Желание Адамса, как писателя, влиять на своих соотечественников и вообще современников приводит его к контактам с (Мефистофелем=)Галландом, а затем и к зависимости от него. Галланд у Волльшлегера имеет и черты волшебника Клингзора из вагнеровского «Парсифаля» — потому что он тесно связан с Лиз Риттбергер (Кундри) и потому что, как и Клингзор, обладает собственными волшебными пространствами. Это может быть дом в Мюнхене, куда он приглашает Адамса, или пивная, где он часто бывает и которая в первой версии романа является конкретным питейным заведением на окраине Бамберга, в Буге, «Приютом Хоффмана», владелец которого — художник-самоучка и бывший нацистский солдат Фриц Хоффманн-Буг (1915-1997) – расписывал его стены картинами, подобными описанным в романе (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 113-114):
поперек и через тусклое надувательство настенных красок : кулис на известковой основе : мелкобуржуазно-непристойных и дилетантских, — мы : сидели тогда под оглушительно-красными змеями : единственным абстрактным сграффито посреди всей этой натужной предметности...
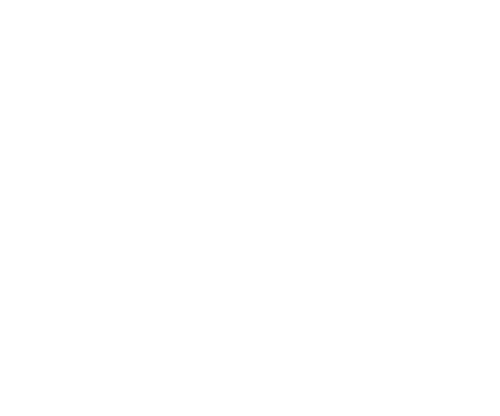
Илл. 8. Картина Фрица Хоффмана-Буга с изображением шабаша ведьм
Или — таинственная вилла с садом, водоемом и глубокими подвалами (где гости занимаются сексом), на которую Адамс попадает в первой версии романа, в Пятой главе. Описание этой виллы очень напоминает замок Клингзора в романе Вольфрама фон Эшенбаха, каким его видит попавший туда рыцарь Гаван (Вольфрам, Парцифаль, с. 263):
Вошел в распахнутые настежь
Ворота замка… Ни один
Слуга ли, страж ли, паладин
Ему не встретился… Все было
Безлюдно, тихо… Все таило
В себе неясную беду…
Герой наш постоял в саду
И осмотрелся постепенно.
Его смущали эти стены:
Их осаждай хоть тридцать лет,
Надежды на победу нет.
Ханс Циммерман пишет о фигуре Клингзора в «Парсифале»6:
Этот «мастер» (с таким титулом)7 — ироничное зеркальное отражение, самореференция, имманентная для этого произведения авторепрезентация Рихарда Вагнера и его околдовывающих цветущих сновидческих образов… <…> Музыка как эвокация Природы, соблазняющей сознание в гармоникальном подполье цветущих звуковых поверхностей.
Я не убеждена, что двуликая Элизабет/Кундри олицетворяет в романе Волльшлегера Природу (разве что — человеческую натуру). Она представляется мне фантазией или — творческим началом, рождающимся из Бессознательного, тогда как Галланд/Клингзор, похоже, воплощает, среди прочего, искусство как сумму (лишенных души, но необходимых для всякой поэзии) технических навыков, в том числе навыков красноречия, — это тот персонаж, о котором Пауль Целан писал в речи «Меридиан» 1960 года8:
Хоть времена совсем иные, но это же искусство выходит на передний план… <...> представленное ярмарочным зазывалой… <…> и «скрипучим голосом» предложит нам взглянуть и изумиться: «здесь нет ничего, кроме искусства и механики, ничего, кроме картонной упаковки и часовых пружинок». <…>
Искусство, дамы и господа, как и всё, что ему сопричастно и с ним соотносимо, является, помимо прочего, проблемой, проблемой склонной, по всей видимости, к метаморфозам, живучей и долговечной, можно даже сказать, вечной.
Роман Волльшлегера кажется близким по стилистике «Парсифалю» маргинала (в кинематографической среде) Ханса-Юргена Зиберберга, вышедшем в том же, что и роман — в 1982-м — году. О другом фильме Зиберберга (но устроенном так же, как «Парсифаль») — «Гитлер, фильм из Германии» (1978) — Сьюзен Сонтаг в 1979 году писала (в эссе «Гитлер Зиберберга»9, с. 114-115, 119-120; выделения полужирным шрифтом мои. — Т. Б.):
Вместо того чтобы выстраивать зрелище в прошедшем времени, пытаясь симулировать «неповторяемую» (по его собственному выражению) реальность или представляя ее в фотодокументах, Зиберберг предлагает нам зрелище в настоящем – своего рода «приключения в голове». Разумеется, в рамках его убежденно антиреалистичной эстетики историческая реальность неповторима по определению. Ее можно осмыслить лишь косвенно, отраженной в зеркале, на подмостках умственного театра. <…> Свой фильм Зиберберг выстроил как фантасмагорию: столь любимую Вагнером медитативно-чувственную форму, размывающую время... <...>
Если говорить о цитатах, то лента предстает настоящей мозаикой стилистических заимствований. <...> Своим эклектизмом фильм Зиберберга довольно точно соответствует стилю сюрреалистов. Сюрреализм – позднейший вариант романтического стиля: это романтизм, который осознает мир как разрушенный, посмертный; романтический стиль, тяготеющий к стилизации. <…> С помощью таких условностей, в особенности циркуляции и повторного использования визуальных и слуховых цитат, фильм Зиберберга одновременно обживает сразу несколько миров и временных пластов — вот основной прием его драматической и визуальной иронии. <…> Эта блистательно скандальная гипербола… <…> ...также питается романтическими по сути взглядами Зиберберга на суверенный характер воображения и его заигрыванием с эзотерической концепцией знания и представлениями об искусстве как магии или духовной алхимии и о воображении — как приспешнике сил тьмы.
В опере Вагнера возвращение Парсифаля (после долгих скитаний) в замок Грааля и исцеление им Амфортаса происходят в Страстную пятницу (тогда же покрывается цветами до этого присыпанный снегом луг). В романе Волльшлегера Страстная пятница играет хоть и не точно такую, но по смыслу близкую роль. В этот вечер Адамс (в первой версии романа не он, а Лиз) слушает «Страсти по Матфею» Баха, затем эти двое, а также Галланд и ученик, встречаются в доме у Адамса и Адамс принимает решение порвать с Галландом (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 261-262; выделения полужирным шрифтом мои. — Т. Б.):
полный штиль — страстная пятница — около девяти часов : колокольный звон висел в сумеречных тучах над городом : kai skotos egeneto eph’ holen ten gen10, — я : сидел, читал — Passion secundum Matthäum11 — красивое факсимильное издание издательства «Инзель» — подарок тети Оно — было мне преподнесено, в порядке выполнения давнего желания, к экзамену : и я снова был совершенно захвачен этой старой историей о страданиях Сына Человеческого, которая, как никакая другая, привнесла в наш мир со-страдание — и эту свою, совершенно историческую, историю тоже вобрала в себя — и потому не имеющее срока давности притязание на незабвенность... — не только в этом ее, самом благородном, облике –: уже в 4-м такте — гигантского Lamento — где тонкое высокое си скрипок как бы доносится сюда из самой трансцендентности : я вдруг совершенно утратил самообладание : вздрогнув — судорожно заплакал — я — я : слышал это внутри себя — как ни человеческие, ни даже ангельские языки не <…>
9–4–50
я еще утром пошел прогуляться за Буг — в тумане у воды — без цели, вдоль оттаявшей травы –: земля пахнет рождением и как бы просеяна печалями –: я …
Покойная тетя Элизабет, сестра отца (заменившая маленькому Адамсу рано умершую мать), когда-то подарила ему партитуру Баха, которую он читает теперь. Поскольку его восприятие квартирной хозяйки фрау Элизабет Зимон (или и она тоже – лишь выдуманный им образ?) то и дело смешивается в его сознании с образом тети, неудивительно, что – если фрау Зимон действительно воплощает его Бессознательное — слова «тети Оно» прочитываются на одном дыхании, как если бы и она тоже воплощала теперь фрейдовское «Оно».
Мотив сострадания — центральный в вагнеровском «Парсифале». Получив (во втором действии оперы) поцелуй Кундри, Парсифаль вспоминает о страданиях Амфортаса и, отвергнувший ее любовь и проклятый ею, отправляется в долгое странствие на поиски замка Грааля.
В романе Волльшлегера происходит нечто другое. Адамс и Лиз собираются «сбежать» от Галланда и отправиться — на одолженной у него машине — в семидневное путешествие по Франконской Швейцарии (на этом напечатанная часть романа, собственно, обрывается). Или, как видно из первоначальной машинописной версии, Адамс в самый жаркий день лета, 30.6.50, получает инфаркт — и долгожданное путешествие с Лиз, а также все дальнейшее, происходит лишь в его воображении. То есть он оказывается в положении Амфортаса.
Освободиться от власти Галланда ему не удается. Дальнейшее является чередой его все более бессвязных снов.
Во второй — неопубликованной — части романа большую роль играет лишь скупо упоминавшийся в первой части брат Лиз, «этот Риттбергер»: в прошлом солдат, нацист, а ныне шофер Галланда, ненавидящий и преследующий (выслеживающий, оскорбляющий) Адамса за то, что тот, еврей, соблазнил его сестру. Персонаж этот попал в роман Волльшлегера непосредственно из «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха. Дело в том, что в версии Вольфрама Кундри имела брата по имени Малькреатюр (фр. Mal-créature, «дурное создание»). Оба они — уродливые дикие существа, присланные индийской королевой в подарок королю Анфортасу. Малькреатюр даже по внешнему описанию напоминает Риттбергера (Вольфрам, Парцифаль, с. 250):
На человека едва похож,
Он волосом был чистый еж,
Глазища злобу излучали…
Анфортас передарил этого субъекта, в качестве оруженосца, герцогине Оргелузе. И когда рыцарь Гаван стал ухаживать за герцогиней, Малькреатюр повел себя с ним так же грубо, как Риттбергер — во время приема на вилле Галланда, в Пятой главе, — повел себя с Адамсом; и Гаван его утихомирил, примерно как Галланд в этом случае «укоротил» (едва не убив) Риттбергера (Вольфрам, Парцифаль, с. 251-252):
Итак, переменив аллюр,
К Гавану Малькреатюр
Подъехал мелкой рысью…
Воздевши морду лисью,
Он исступленно заорал:
«Ты!.. Герцогиню ты украл!
Тебе сверну я шею,
Гнусному злодею!..»
…Ну, тут наш друг Гаван слегка
Утихомирил дурака,
Не повышая голоса,
Схватил его за волосы
И прямо нá землю швырнул,
Чуть шею чудищу не свернул!
Жаль вот: рука о вóлос
До крови укололась.
Шестая глава «Отростков сердца» почти сплошь представляет собой череду конфликтов, с применением насилия, между Адамсом и Риттбергером (конфликтов из-за их отношений с Лиз, с участием Галланда). Верх одерживает то один, то другой (и в финале романа оба, независимо от исхода этих драк, умирают).
Их драки очень напоминают поединок между внезапно встретившимися (в конце романа Вольфрама фон Эшенбаха) Парцифалем и его (незнакомым ему) братом по отцу, мавританским рыцарем Фейрефицем (с пятнистой, черно-белой пигментацией тела). Описывается этот поединок так (Вольфрам, Парцифаль, с. 320-321, 323-324; курсив оригинала. — Т. Б.):
Они сражаются… Они?!
Нет, истине в глаза взгляни:
Здесь в испытанье боевое,
Казалось бы, вступили двое,
Но двое, бывшие – одним.
Мы их в одно соединим:
Две кровных половины,
Два брата двуедины… <…>
(Я обоих братьев имею в виду
И для обоих пощады жду,
Для язычника и для христианина,
Ибо плоть их и кровь их едина…) …
Забрало поднял Фейрефиц:
И белолиц и чернолиц
Он был на самом деле.
Глаза его горели.
И, в нем узнав свои черты,
Рек Парцифаль: «Да. Это — ты...»
...Двухцветный, как сорока,
Растроганный глубоко,
с себя язычник панцирь снял –
Мир между братьями настал…
«Этот Риттбергер» не был военным преступником — просто заурядным солдатом. Примирения между ним и Адамсом не происходит. Однако Адамс в конце напечатанной части романа осознает, что виновен, пожалуй, не меньше, чем бывший немецкий солдат: ведь он, как корреспондент Би-би-си, во время войны летал на самолетах британских ВВС, наблюдая за ковровыми бомбардировками Гамбурга, Кёльна… И соотечественники никогда ему этого не простят. Как бы то ни было, Риттбергер – не какое-то исчадие ада, а «брат» ему, пусть и неприятный.
Вошел в распахнутые настежь
Ворота замка… Ни один
Слуга ли, страж ли, паладин
Ему не встретился… Все было
Безлюдно, тихо… Все таило
В себе неясную беду…
Герой наш постоял в саду
И осмотрелся постепенно.
Его смущали эти стены:
Их осаждай хоть тридцать лет,
Надежды на победу нет.
Ханс Циммерман пишет о фигуре Клингзора в «Парсифале»6:
Этот «мастер» (с таким титулом)7 — ироничное зеркальное отражение, самореференция, имманентная для этого произведения авторепрезентация Рихарда Вагнера и его околдовывающих цветущих сновидческих образов… <…> Музыка как эвокация Природы, соблазняющей сознание в гармоникальном подполье цветущих звуковых поверхностей.
Я не убеждена, что двуликая Элизабет/Кундри олицетворяет в романе Волльшлегера Природу (разве что — человеческую натуру). Она представляется мне фантазией или — творческим началом, рождающимся из Бессознательного, тогда как Галланд/Клингзор, похоже, воплощает, среди прочего, искусство как сумму (лишенных души, но необходимых для всякой поэзии) технических навыков, в том числе навыков красноречия, — это тот персонаж, о котором Пауль Целан писал в речи «Меридиан» 1960 года8:
Хоть времена совсем иные, но это же искусство выходит на передний план… <...> представленное ярмарочным зазывалой… <…> и «скрипучим голосом» предложит нам взглянуть и изумиться: «здесь нет ничего, кроме искусства и механики, ничего, кроме картонной упаковки и часовых пружинок». <…>
Искусство, дамы и господа, как и всё, что ему сопричастно и с ним соотносимо, является, помимо прочего, проблемой, проблемой склонной, по всей видимости, к метаморфозам, живучей и долговечной, можно даже сказать, вечной.
Роман Волльшлегера кажется близким по стилистике «Парсифалю» маргинала (в кинематографической среде) Ханса-Юргена Зиберберга, вышедшем в том же, что и роман — в 1982-м — году. О другом фильме Зиберберга (но устроенном так же, как «Парсифаль») — «Гитлер, фильм из Германии» (1978) — Сьюзен Сонтаг в 1979 году писала (в эссе «Гитлер Зиберберга»9, с. 114-115, 119-120; выделения полужирным шрифтом мои. — Т. Б.):
Вместо того чтобы выстраивать зрелище в прошедшем времени, пытаясь симулировать «неповторяемую» (по его собственному выражению) реальность или представляя ее в фотодокументах, Зиберберг предлагает нам зрелище в настоящем – своего рода «приключения в голове». Разумеется, в рамках его убежденно антиреалистичной эстетики историческая реальность неповторима по определению. Ее можно осмыслить лишь косвенно, отраженной в зеркале, на подмостках умственного театра. <…> Свой фильм Зиберберг выстроил как фантасмагорию: столь любимую Вагнером медитативно-чувственную форму, размывающую время... <...>
Если говорить о цитатах, то лента предстает настоящей мозаикой стилистических заимствований. <...> Своим эклектизмом фильм Зиберберга довольно точно соответствует стилю сюрреалистов. Сюрреализм – позднейший вариант романтического стиля: это романтизм, который осознает мир как разрушенный, посмертный; романтический стиль, тяготеющий к стилизации. <…> С помощью таких условностей, в особенности циркуляции и повторного использования визуальных и слуховых цитат, фильм Зиберберга одновременно обживает сразу несколько миров и временных пластов — вот основной прием его драматической и визуальной иронии. <…> Эта блистательно скандальная гипербола… <…> ...также питается романтическими по сути взглядами Зиберберга на суверенный характер воображения и его заигрыванием с эзотерической концепцией знания и представлениями об искусстве как магии или духовной алхимии и о воображении — как приспешнике сил тьмы.
В опере Вагнера возвращение Парсифаля (после долгих скитаний) в замок Грааля и исцеление им Амфортаса происходят в Страстную пятницу (тогда же покрывается цветами до этого присыпанный снегом луг). В романе Волльшлегера Страстная пятница играет хоть и не точно такую, но по смыслу близкую роль. В этот вечер Адамс (в первой версии романа не он, а Лиз) слушает «Страсти по Матфею» Баха, затем эти двое, а также Галланд и ученик, встречаются в доме у Адамса и Адамс принимает решение порвать с Галландом (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 261-262; выделения полужирным шрифтом мои. — Т. Б.):
полный штиль — страстная пятница — около девяти часов : колокольный звон висел в сумеречных тучах над городом : kai skotos egeneto eph’ holen ten gen10, — я : сидел, читал — Passion secundum Matthäum11 — красивое факсимильное издание издательства «Инзель» — подарок тети Оно — было мне преподнесено, в порядке выполнения давнего желания, к экзамену : и я снова был совершенно захвачен этой старой историей о страданиях Сына Человеческого, которая, как никакая другая, привнесла в наш мир со-страдание — и эту свою, совершенно историческую, историю тоже вобрала в себя — и потому не имеющее срока давности притязание на незабвенность... — не только в этом ее, самом благородном, облике –: уже в 4-м такте — гигантского Lamento — где тонкое высокое си скрипок как бы доносится сюда из самой трансцендентности : я вдруг совершенно утратил самообладание : вздрогнув — судорожно заплакал — я — я : слышал это внутри себя — как ни человеческие, ни даже ангельские языки не <…>
9–4–50
я еще утром пошел прогуляться за Буг — в тумане у воды — без цели, вдоль оттаявшей травы –: земля пахнет рождением и как бы просеяна печалями –: я …
Покойная тетя Элизабет, сестра отца (заменившая маленькому Адамсу рано умершую мать), когда-то подарила ему партитуру Баха, которую он читает теперь. Поскольку его восприятие квартирной хозяйки фрау Элизабет Зимон (или и она тоже – лишь выдуманный им образ?) то и дело смешивается в его сознании с образом тети, неудивительно, что – если фрау Зимон действительно воплощает его Бессознательное — слова «тети Оно» прочитываются на одном дыхании, как если бы и она тоже воплощала теперь фрейдовское «Оно».
Мотив сострадания — центральный в вагнеровском «Парсифале». Получив (во втором действии оперы) поцелуй Кундри, Парсифаль вспоминает о страданиях Амфортаса и, отвергнувший ее любовь и проклятый ею, отправляется в долгое странствие на поиски замка Грааля.
В романе Волльшлегера происходит нечто другое. Адамс и Лиз собираются «сбежать» от Галланда и отправиться — на одолженной у него машине — в семидневное путешествие по Франконской Швейцарии (на этом напечатанная часть романа, собственно, обрывается). Или, как видно из первоначальной машинописной версии, Адамс в самый жаркий день лета, 30.6.50, получает инфаркт — и долгожданное путешествие с Лиз, а также все дальнейшее, происходит лишь в его воображении. То есть он оказывается в положении Амфортаса.
Освободиться от власти Галланда ему не удается. Дальнейшее является чередой его все более бессвязных снов.
Во второй — неопубликованной — части романа большую роль играет лишь скупо упоминавшийся в первой части брат Лиз, «этот Риттбергер»: в прошлом солдат, нацист, а ныне шофер Галланда, ненавидящий и преследующий (выслеживающий, оскорбляющий) Адамса за то, что тот, еврей, соблазнил его сестру. Персонаж этот попал в роман Волльшлегера непосредственно из «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха. Дело в том, что в версии Вольфрама Кундри имела брата по имени Малькреатюр (фр. Mal-créature, «дурное создание»). Оба они — уродливые дикие существа, присланные индийской королевой в подарок королю Анфортасу. Малькреатюр даже по внешнему описанию напоминает Риттбергера (Вольфрам, Парцифаль, с. 250):
На человека едва похож,
Он волосом был чистый еж,
Глазища злобу излучали…
Анфортас передарил этого субъекта, в качестве оруженосца, герцогине Оргелузе. И когда рыцарь Гаван стал ухаживать за герцогиней, Малькреатюр повел себя с ним так же грубо, как Риттбергер — во время приема на вилле Галланда, в Пятой главе, — повел себя с Адамсом; и Гаван его утихомирил, примерно как Галланд в этом случае «укоротил» (едва не убив) Риттбергера (Вольфрам, Парцифаль, с. 251-252):
Итак, переменив аллюр,
К Гавану Малькреатюр
Подъехал мелкой рысью…
Воздевши морду лисью,
Он исступленно заорал:
«Ты!.. Герцогиню ты украл!
Тебе сверну я шею,
Гнусному злодею!..»
…Ну, тут наш друг Гаван слегка
Утихомирил дурака,
Не повышая голоса,
Схватил его за волосы
И прямо нá землю швырнул,
Чуть шею чудищу не свернул!
Жаль вот: рука о вóлос
До крови укололась.
Шестая глава «Отростков сердца» почти сплошь представляет собой череду конфликтов, с применением насилия, между Адамсом и Риттбергером (конфликтов из-за их отношений с Лиз, с участием Галланда). Верх одерживает то один, то другой (и в финале романа оба, независимо от исхода этих драк, умирают).
Их драки очень напоминают поединок между внезапно встретившимися (в конце романа Вольфрама фон Эшенбаха) Парцифалем и его (незнакомым ему) братом по отцу, мавританским рыцарем Фейрефицем (с пятнистой, черно-белой пигментацией тела). Описывается этот поединок так (Вольфрам, Парцифаль, с. 320-321, 323-324; курсив оригинала. — Т. Б.):
Они сражаются… Они?!
Нет, истине в глаза взгляни:
Здесь в испытанье боевое,
Казалось бы, вступили двое,
Но двое, бывшие – одним.
Мы их в одно соединим:
Две кровных половины,
Два брата двуедины… <…>
(Я обоих братьев имею в виду
И для обоих пощады жду,
Для язычника и для христианина,
Ибо плоть их и кровь их едина…) …
Забрало поднял Фейрефиц:
И белолиц и чернолиц
Он был на самом деле.
Глаза его горели.
И, в нем узнав свои черты,
Рек Парцифаль: «Да. Это — ты...»
...Двухцветный, как сорока,
Растроганный глубоко,
с себя язычник панцирь снял –
Мир между братьями настал…
«Этот Риттбергер» не был военным преступником — просто заурядным солдатом. Примирения между ним и Адамсом не происходит. Однако Адамс в конце напечатанной части романа осознает, что виновен, пожалуй, не меньше, чем бывший немецкий солдат: ведь он, как корреспондент Би-би-си, во время войны летал на самолетах британских ВВС, наблюдая за ковровыми бомбардировками Гамбурга, Кёльна… И соотечественники никогда ему этого не простят. Как бы то ни было, Риттбергер – не какое-то исчадие ада, а «брат» ему, пусть и неприятный.
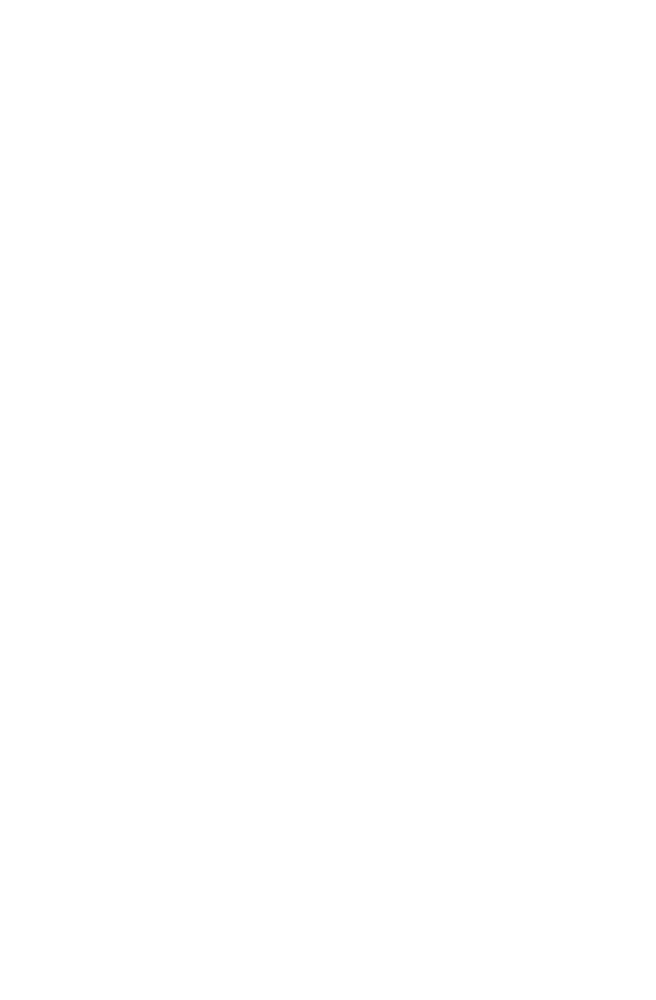
Илл. 9. Обложка книги воспоминаний Михаэля Керра, сына Альфреда Керра
(одного из прототипов Адамса) — с его военной фотографией в форме летчика британских ВВС,
детской фотографией с родителями и сестрой и фотографией в зрелом возрасте, в качестве британского судьи
(одного из прототипов Адамса) — с его военной фотографией в форме летчика британских ВВС,
детской фотографией с родителями и сестрой и фотографией в зрелом возрасте, в качестве британского судьи
В конце оперы Вагнера Парсифаль наконец возвращается в замок Грааля (пришедший тем временем в полное запустение) и, прикоснувшись священным копьем к ране Амфортаса, излечивает ее — после чего сам становится преемником больного и грешного короля, новым хранителем Грааля.
Михаэль Адамс, на протяжении Шестой главы произносивший все более жесткие инвективы против церкви, в одном из своих последних видений попадает в нюрнбергский собор Сент-Лоренц, сильно поврежденный во время войны и на тот моменет (в 1950 году) еще находившийся в состоянии реставрации (Волльшлегер, Отростки сердца, машинописная версия; выделения полужирным шрифтом мои. — Т. Б.):
Сент-Лоренц — высочайшее архитектурное достижение : частично уже снова доступен — и реставрация продолжается : Я медленно прошелся по двум проходам : достаточно странно — обнаружить здесь статую Меня=эМира – с копьем : серым железным кованым – оно ударило через решетку в Меня : банальное недоразумение — Я : горстка услужающих Богу духов призрачно-приблизилась — обычные механики — прогоняющие врéменную скуку тихой болтовней : что-то уже погнало их прочь — поскольку Я есмь последний хранитель времени, Меня это навело на
Михаэль Адамс, на протяжении Шестой главы произносивший все более жесткие инвективы против церкви, в одном из своих последних видений попадает в нюрнбергский собор Сент-Лоренц, сильно поврежденный во время войны и на тот моменет (в 1950 году) еще находившийся в состоянии реставрации (Волльшлегер, Отростки сердца, машинописная версия; выделения полужирным шрифтом мои. — Т. Б.):
Сент-Лоренц — высочайшее архитектурное достижение : частично уже снова доступен — и реставрация продолжается : Я медленно прошелся по двум проходам : достаточно странно — обнаружить здесь статую Меня=эМира – с копьем : серым железным кованым – оно ударило через решетку в Меня : банальное недоразумение — Я : горстка услужающих Богу духов призрачно-приблизилась — обычные механики — прогоняющие врéменную скуку тихой болтовней : что-то уже погнало их прочь — поскольку Я есмь последний хранитель времени, Меня это навело на
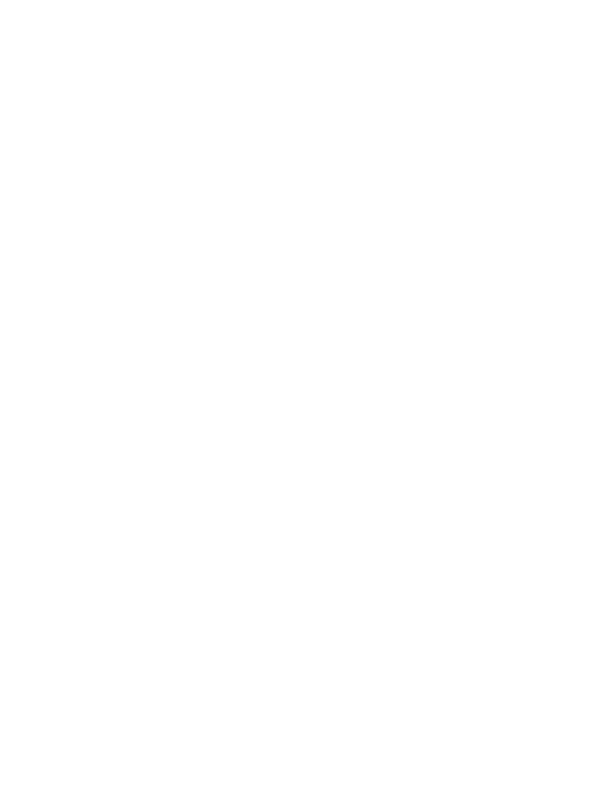
Илл. 10. Нюрнбергский собор Сент-Лоренц в 1943 году
Безумному Адамсу кажется, что он видит в соборе себя самого, «хранителя времени» (хранителя Грааля?) и благородного эмира Джиннистана (страны дýхов) из поздних романов Карла Мая. На самом деле он видит реальную, находящуюся в соборе статую архангела Михаила, поражающего дракона (дьявола):
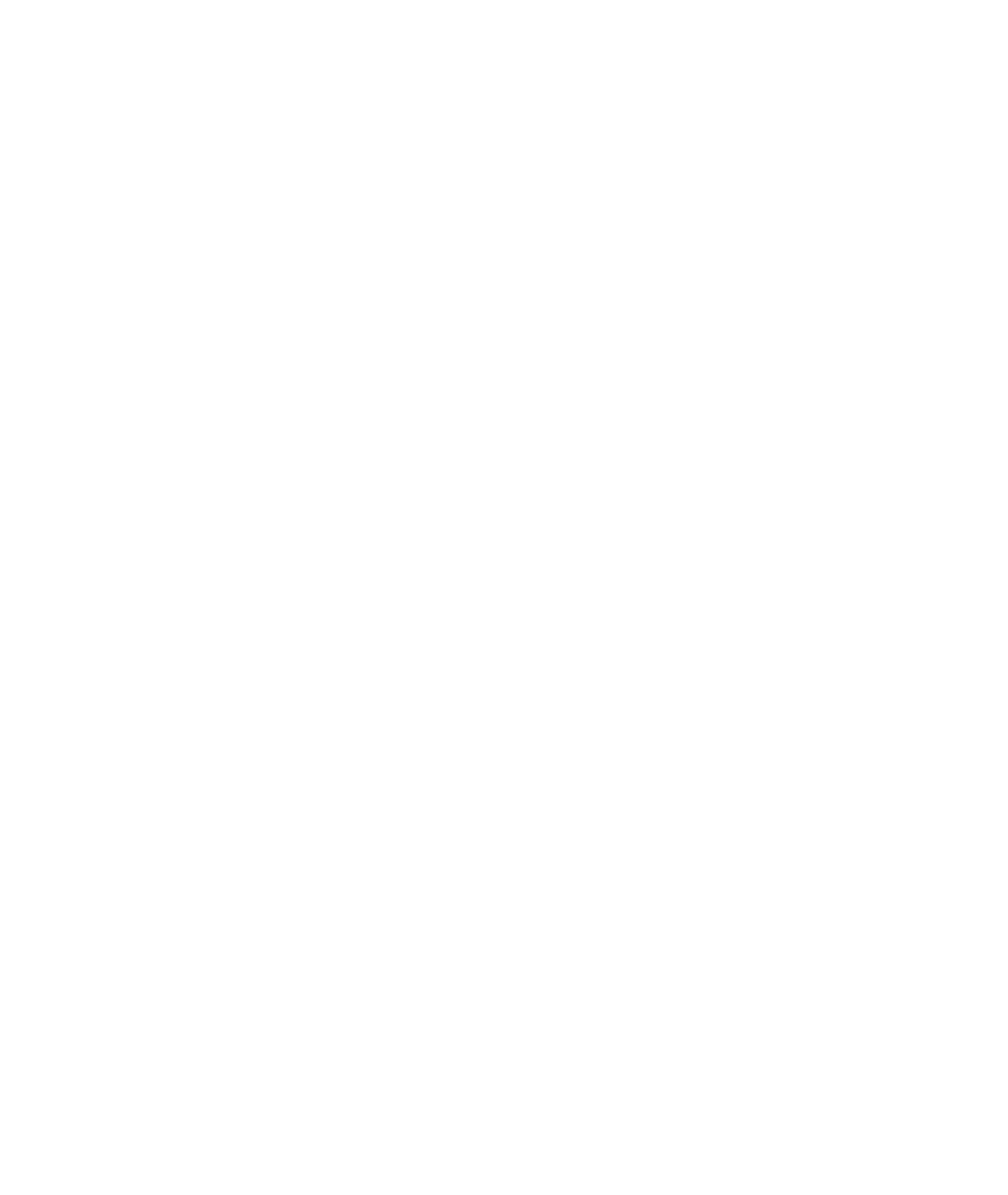
Илл. 11. Статуя архангела Михаила в Сент-Лоренце
Дьявол в соборе не изображен, да и из видения очевидно, что копье (или меч) архангела поражает Адамса=Амфортаса, как если бы он сам был драконом. В конце концов и оказывается, что Галланд — лишь зеркальное отражение Адамса, с которым можно вести воображаемый диалог:
в поблекшем Г льдис т..т,т.. ом ок он ном стекле треснувшем передо мной
Вы – пришли слишком рано : сударь : Вы пришли слишком поздно
тут уже закрылись : внутри — чернó : красок больше не разглядеть : за всеми стеклами — затаился темнейший мрак : подстерегает вострейший лик: никаких цветков больше : не увидеть
и я навострил уши : а мой зеркальный образ холодно губами ше
В романе Вольфрама фон Эшенбаха отшельник рассказывает наконец почти уже вернувшемуся к замку Грааля Парцифалю о его умершей (отчасти по вине самого Парцифаля) матери (Вольфрам, Парцифаль, с. 237):
Ах, вещий ей приснился сон!
Узнай же: ты был тот дракон,
Что ей в беременности снился!
Он же объясняет судьбу больного короля Анфортаса (там же, с. 234):
«Анфортас стал королем Грааля,
Он правит Граалем до сих пор,
Хотя он немощен и хвор…
В далекой юности когда-то
Его душа была объята
Невыносимым честолюбьем,
Которым сами себя мы губим,
И алчностью в любовной страсти,
Что повергло весь мир в несчастье… ...»
Заключительная мизансцена вагнеровского «Парсифаля» описывается в либретто так:
В сводчатых галереях слышится всё возрастающий перезвон. — Наконец, стены утесов раздвигаются, и открывается большой зал в замке Грааля, — тот же, что и в первом действии, только без столов. Посреди сцены поставлен катафалк. По-прежнему отворяются двери. С одной стороны входят рыцари, несущие и сопровождающие гроб с телом Титуреля. Через другую дверь вносят Амфортаса на одре болезни; перед ним несут ковчег с Граалем, накрытым покровом.
Последние две главы «Отростков сердца» полны аллюзий на похороны Адамса (на которых присутствует, среди прочих, его ученик) и подробности сжигания тела в печи крематория. Отсюда — такие странные выражения, как «колесуемый-все-еще-не-стихшими снами» (потому что кости после сгорания трупа перемалываются в особом механизме), «мы бесконечно долго шли… <...> вдоль бесконечных бетонных шпал», «лестничная шахта» – ведущая от рельсовых путей куда-то наверх (в крематории гроб сначала доставлялся в подвальное помещение, оттуда его поднимали на лифте в зал прощания, там он въезжал по особым рельсам в печь, само же сжигание — в струе раскаленного воздуха — происходило опять-таки в подвальном помещении). «Зал» (Halle), многократно упоминаемый в этих главах, можно понимать (поскольку речь идет о видениях) и как зал ожидания на вокзале, и как холл гостиницы, и как «зал прощания» крематория, и как зал в замке Грааля, где рыцари хоронят отца нынешнего короля Грааля, Амфортаса, — короля Титуреля. Точнее, все эти картины перемешиваются, наслаиваясь одна на другую.
в поблекшем Г льдис т..т,т.. ом ок он ном стекле треснувшем передо мной
Вы – пришли слишком рано : сударь : Вы пришли слишком поздно
тут уже закрылись : внутри — чернó : красок больше не разглядеть : за всеми стеклами — затаился темнейший мрак : подстерегает вострейший лик: никаких цветков больше : не увидеть
и я навострил уши : а мой зеркальный образ холодно губами ше
В романе Вольфрама фон Эшенбаха отшельник рассказывает наконец почти уже вернувшемуся к замку Грааля Парцифалю о его умершей (отчасти по вине самого Парцифаля) матери (Вольфрам, Парцифаль, с. 237):
Ах, вещий ей приснился сон!
Узнай же: ты был тот дракон,
Что ей в беременности снился!
Он же объясняет судьбу больного короля Анфортаса (там же, с. 234):
«Анфортас стал королем Грааля,
Он правит Граалем до сих пор,
Хотя он немощен и хвор…
В далекой юности когда-то
Его душа была объята
Невыносимым честолюбьем,
Которым сами себя мы губим,
И алчностью в любовной страсти,
Что повергло весь мир в несчастье… ...»
Заключительная мизансцена вагнеровского «Парсифаля» описывается в либретто так:
В сводчатых галереях слышится всё возрастающий перезвон. — Наконец, стены утесов раздвигаются, и открывается большой зал в замке Грааля, — тот же, что и в первом действии, только без столов. Посреди сцены поставлен катафалк. По-прежнему отворяются двери. С одной стороны входят рыцари, несущие и сопровождающие гроб с телом Титуреля. Через другую дверь вносят Амфортаса на одре болезни; перед ним несут ковчег с Граалем, накрытым покровом.
Последние две главы «Отростков сердца» полны аллюзий на похороны Адамса (на которых присутствует, среди прочих, его ученик) и подробности сжигания тела в печи крематория. Отсюда — такие странные выражения, как «колесуемый-все-еще-не-стихшими снами» (потому что кости после сгорания трупа перемалываются в особом механизме), «мы бесконечно долго шли… <...> вдоль бесконечных бетонных шпал», «лестничная шахта» – ведущая от рельсовых путей куда-то наверх (в крематории гроб сначала доставлялся в подвальное помещение, оттуда его поднимали на лифте в зал прощания, там он въезжал по особым рельсам в печь, само же сжигание — в струе раскаленного воздуха — происходило опять-таки в подвальном помещении). «Зал» (Halle), многократно упоминаемый в этих главах, можно понимать (поскольку речь идет о видениях) и как зал ожидания на вокзале, и как холл гостиницы, и как «зал прощания» крематория, и как зал в замке Грааля, где рыцари хоронят отца нынешнего короля Грааля, Амфортаса, — короля Титуреля. Точнее, все эти картины перемешиваются, наслаиваясь одна на другую.
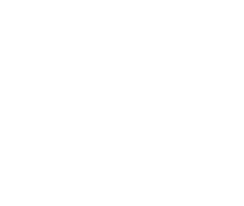
Илл. 12. Из кн.: И. В. Стоклицкий. Кремация за границей и у нас. М.: Издание Мосздравотдела, 1928
Последние слова романа «Отростки сердца» вообще, похоже, принадлежат праху сгоревшего в кремационной печи Адамса:
Я пишу это в Копакабане12...
...может быть что и в Адене...
...под...
...схлопнувшимся=сгоревшим небом...
...мы обрели очень легкие стопы...
...летать – ...
...между нами, мы летаем много...
...от вОт до вОтт до...
...t. . t , t . .
Такая концовка кажется беспросветной по сравнению с финалом вагнеровской оперы о Парсифале, которому удается излечить Амфортаса и который становится затем его преемником (выделение полужирным шрифтом мое. — Т. Б.):
Все
(вместе с голосами со средней и предельной высот, чуть слышно)
Тайны высшей чудо!
Спаситель, днесь спасённый! [Erlösung dem Erlöser!, букв. «Спасение спасителю!»]
Луч света: ярчайшее сиянье Грааля. С высоты купола слетает белый голубь и парит над головой Парсифаля. — Кундри, поднимая взор к Парсифалю, медленно падает перед ним, бездыханная. Амфортас, Гурнеманц коленопреклонно величают Парсифаля, который благословляет Граалем всё рыцарство, охваченное набожным умилением.
(Занавес медленно задвигается).
Мотив пепла присутствует, как ни странно, и в «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха, в рамках рассказа отшельника о тайне Грааля (Вольфрам, Парцифаль, с. 232-234; курсив оригинала. — Т. Б.):
«...Грааль — это камень особой породы:
Lapsit exillis — перевода
На наш язык пока что нет…
Он излучает волшебный свет,
Пламя, в котором, раскинув крыла,
Птица Феникс сгорает дотла,
Чтобы из пепла воспрянуть снова,
Ущерба не претерпев никакого,
А только прекраснее становясь…
Вот она — взаимосвязь
Меж умираньем и обновленьем!
Все это схоже с одним явленьем,
Известным у птиц под названьем линька. <…>
Грааль, он тем и знаменит,
Что человечью жизнь хранит. <…>
И сила его не истощается,
Не могут исчерпаться никогда
Ни его питье, ни его еда,
Ни сокровища недр, ни сокровища вод,
Ни что на суше, в реке или в море живет. …
...Когда небеса сотрясало войною
Меж Господом Богом и сатаною,
Сей камень ангелы сберегли
Для лучших, избранных чад земли...»
Если приглядеться к тому, как – визуально – выглядит в машинописи окончание романа Волльшлегера (кусок, который цитировался выше), то «пеплом» или «песчинками» оказываются сами слова умирающего Адамса. И заканчивается всё изображением — голубя Святого Духа, символа рыцарей Грааля:
Я пишу это в Копакабане12...
...может быть что и в Адене...
...под...
...схлопнувшимся=сгоревшим небом...
...мы обрели очень легкие стопы...
...летать – ...
...между нами, мы летаем много...
...от вОт до вОтт до...
...t. . t , t . .
Такая концовка кажется беспросветной по сравнению с финалом вагнеровской оперы о Парсифале, которому удается излечить Амфортаса и который становится затем его преемником (выделение полужирным шрифтом мое. — Т. Б.):
Все
(вместе с голосами со средней и предельной высот, чуть слышно)
Тайны высшей чудо!
Спаситель, днесь спасённый! [Erlösung dem Erlöser!, букв. «Спасение спасителю!»]
Луч света: ярчайшее сиянье Грааля. С высоты купола слетает белый голубь и парит над головой Парсифаля. — Кундри, поднимая взор к Парсифалю, медленно падает перед ним, бездыханная. Амфортас, Гурнеманц коленопреклонно величают Парсифаля, который благословляет Граалем всё рыцарство, охваченное набожным умилением.
(Занавес медленно задвигается).
Мотив пепла присутствует, как ни странно, и в «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха, в рамках рассказа отшельника о тайне Грааля (Вольфрам, Парцифаль, с. 232-234; курсив оригинала. — Т. Б.):
«...Грааль — это камень особой породы:
Lapsit exillis — перевода
На наш язык пока что нет…
Он излучает волшебный свет,
Пламя, в котором, раскинув крыла,
Птица Феникс сгорает дотла,
Чтобы из пепла воспрянуть снова,
Ущерба не претерпев никакого,
А только прекраснее становясь…
Вот она — взаимосвязь
Меж умираньем и обновленьем!
Все это схоже с одним явленьем,
Известным у птиц под названьем линька. <…>
Грааль, он тем и знаменит,
Что человечью жизнь хранит. <…>
И сила его не истощается,
Не могут исчерпаться никогда
Ни его питье, ни его еда,
Ни сокровища недр, ни сокровища вод,
Ни что на суше, в реке или в море живет. …
...Когда небеса сотрясало войною
Меж Господом Богом и сатаною,
Сей камень ангелы сберегли
Для лучших, избранных чад земли...»
Если приглядеться к тому, как – визуально – выглядит в машинописи окончание романа Волльшлегера (кусок, который цитировался выше), то «пеплом» или «песчинками» оказываются сами слова умирающего Адамса. И заканчивается всё изображением — голубя Святого Духа, символа рыцарей Грааля:
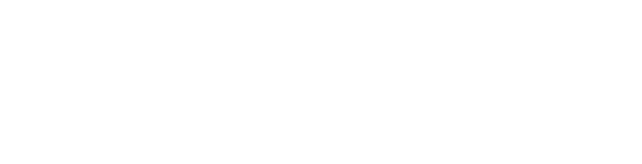
Илл. 13. Последние строки первой версии романа Волльшлегера
Парсифалем оказывается в конце концов ученик Адамса, В., который сохранил и издал оставленные Адамсом фрагменты (и которому Адамс — уже после смерти — подарил свою библиотеку); в сцене описания похорон Адамса — единственный раз в романе, если не считать подписи под предисловием издателя, — называется его, ученика, полное имя: Ханс Волльшлегер. Возможно, это именно он представлял себе предсмертные или даже посмертные видения Адамса — человека, писателя из поколения его отцов. Во всяком случае, в машинописи, напротив начала последней главы романа, Волльшлегер написал от руки:
Я лежу in effigie [=символически, фигурально. — Т. Б.]
(Маска как заместительство — ?
Послесловие, «Последний портрет»)
Мнимая смерть : Переход
в другую сферу
— сферу волновых колебаний
Как Волльшлегер представлял себе такие вещи, он подробно объяснил не в романе, а в лаудацио эссеисту Михаэлю Маару, автору книги о Томасе Манне, в 1995 году. Имеет смысл процитировать его объяснение почти целиком13:
Это [книга Маара] — произведение литературной критики в самом высоком смысле, и в нем соединилось многое: многозначная интерпретация и посредничество между произведением и читателем, общезначимое исповедание поэтологической веры — очень серьезного понимания того, что великий автор, которому посвящено исследование, сам передал ему некое наследие, налагающее определенные обязательства. Наконец, это исследование, сопряженное с серьезным осознанием его автором своих обязательств, можно назвать теологическим, представляющим собой экзегезу: настолько сильно авторский взгляд сконцентрирован на Изначальном; настолько ощутимо присутствует за «Новостями изнутри Волшебной горы»14 исследовательский импульс, восходящий к наидревнейшей Вести. Ведь тогда, очень давно, bereschit15, en arche16, когда Логос Начала, взорвавшись, разлетелся на тысячи тысяч осколков и возник континуум, среди прочего и литературы, одновременно возникла задача: вновь соединить эти частицы, внезапно расщепившиеся в результате взрыва, и посредством команды «Да будет свет» восстановить ту прежнюю мощную взаимосвязь, сделать зримым то, чего мы не можем видеть, но во что все же хотим — метафорически — верить. <…>
Как метод, как ремесло критика, как упражнение в духовной алхимии, филология есть не что иное, как исследование литературных атомов: прояснение структурных связей между столь многими Я-голосами, роящимися в Супер-Эго-Пространстве Литературы. <…> Работа Михаэля Маара о Волшебной горе парадигматически показывает, на примере одного-единственного автора Томаса Манна, как функционирует эволюция слов и произведений: как любой смысл происходит из смыслов, порожденных каким-то другим автором, – как он принимает то, что отдают они, вписанные в Незабываемое, – как любовная связь между одним и другим в конечном итоге становится продуктивной и делает возможным продолжение рода во все более богатой Длительности. <…>
Если — согласно поэтологическому кредо также и Томаса Манна — поэт есть преемник, в должности командующего, Creator’а Spiritus’а, а его произведения – переложения основополагающего произведения, мира, то интерпретаторы перелагают уже созданные произведения еще и еще раз; и если поэты всегда создают автобиографии, то и интерпретаторы бывают порой создателями собственных жизнеописаний. Ибо только так может получиться подлинная реконструкция — только так, на все дальнейшие времена, пишется грандиозный роман с продолжениями, автор которого имеет множество псевдонимов, а в конечном счете является «Духом». То, что этот роман все еще продолжается, что нынешнее бездуховное время не может его оборвать, делает нас счастливыми.
[Creator Spiritus – Дух Животворящий. К нему обращен известный католический гимн, написанный в IX веке: «Veni Creator Spiritus» («О Сотворитель Дух, приди...» в переводе Д. фон Штернбек). Восьмая симфония Густава Малера состоит из двух частей, в основе которых лежат этот гимн и заключительная сцена «Фауста» Гёте (путешествие души Фауста и искупление его вины). Следовало бы отдельно заняться вопросом, как «Отростки сердца» соотносятся с Восьмой симфонией Малера. Тем более, что последняя встреча Адамса и Галланда происходит именно в Мюнхене, где 12 сентября 1810 года состоялась ее премьера.]
И последний вопрос: почему именно «Парсифаль» Вагнера (наряду с некоторыми другими произведениями) играет столь значимую – структурообразующую – роль в романе Волльшлегера?
Рихард Вагнер остается одиозной фигурой для многих людей (скажем, в Германии и в Израиле), даже сейчас. Доказательство тому — современные постановки опер Вагнера, в которых чаще всего, оставляя в неприкосновенности музыку, подставляют под нее чуждое или даже противоположное замыслу автора содержание. Когда я сейчас, в связи с романом Волльшлегера, захотела посмотреть какую-нибудь современную экранизацию «Парсифаля», я выключила фильм в конце Первого действия, как только увидела, что в качестве чаши Грааля фигурирует обнаженный мальчик, которому Амфортас наносит ножевую рану.
Вагнер был любимым композитором Гитлера. В статье Давида Энгельса «„Он ранен – меня жжет эта рана!“ Символика крови в „Парсифале“ Рихарда Вагнера» можно прочитать следующее17:
Поэтому совсем неслучайно, что «Парсифаля» запрещали исполнять во время войны — чтобы увенчать гала-представлением «Парсифаля», в расширенном Байрейтском театре, чаемую победу немцев во Второй мировой войне и чтобы таким образом инаугурировать эпоху германского мирового господства, как Гитлер доверительно сообщил Вольфгангу Вагнеру.
Но для Волльшлегера важно другое, не это извне навязанное вагнеровской опере толкование. Вагнер, как и некоторые другие творцы, о которых идет речь на страницах «Отростков сердца», искал пути к построению более гуманного общества — и к сохранению традиции европейского гуманизма. Название книги, которую пишет Адамс, «Прощание с гуманизмом», надо понимать в том же смысле, что и название статьи Волльшлегера «Прощание Песни с землей. О поздних произведениях Малера»: как печаль или страх в связи с тем, что «сама человечность (das Humanum) отдаляется от людей»18.
По поводу идейной основы «Парсифаля» музыковед Ульрике Кинцле пишет19:
Является ли «Парсифаль» христианской музыкальной драмой? Нам придется ответить на этот вопрос «нет», если мы хотим рассматривать последнее произведение Вагнера как укрепляющее догмы церкви, будь то протестантской или католической. И все же мы вправе ответить «да», если воспринимаем переплетенные пути средневекового и современного мистицизма всерьез, как компоненты христианской традиции. Мистицизм Вагнера отчасти происходит от философии Шопенгауэра и в этом смысле представляет собой мистицизм без Бога. «Парсифаль», похоже, задает вопрос: возможно ли иметь какую бы то ни было религию в нерелигиозную эпоху. <…> В своей последней музыкальной драме Вагнер предлагает этику ненасилия и выступает за примирение между человеком и природой. Его попытка осуществить синтез индийских и христианских верований участвует в межрелигиозном диалоге, который продолжается и сегодня. Вагнер сознавал проблематичный характер такого утопического мировидения. <…> Выражение этой утопии – загадочная фраза «Спасение Спасителю!» — может быть прочтено как констатация факта или мы можем понять его как призыв самим что-то предпринять ради искупления Искупителя.
Добавлю к этому свое, дилетантское, впечатление от вагнеровского «Парсифаля»: поражает в сюжете этой оперы то, что в ней много виновных (к коим можно отнести и Амфортаса, и Парсифаля), но вообще нет речи о наказании или окончательном отторжении кого-то из них. Вопрос стоит только один: как можно тому или иному человеку помочь. (Единственное исключение, может быть, Клингзор.) Все это свойственно и первоисточнику оперы, роману Вольфрама фон Эшенбаха. Там Гурнеманц наставляет юного Парцифаля в законах рыцарства (Вольфрам, Парцифаль, с. 106):
«Стремись священный стыд сберечь,
Знай: без священного стыда
Душа — как птица без гнезда,
Лишенная к тому же крыл...»
И далее проговорил:
«Будь милосерд и справедлив,
К чужим ошибкам терпелив
И помни всюду и везде:
Не оставляй людей в беде.
Спеши, спеши на помощь к ним,
К тем, кто обижен и гоним,
Навек спознавшись с состраданьем,
Как с первым рыцарским даяньем… ...»
Эта этика, похоже, очень близка Волльшлегеру. Этика, основанная не на вражде, а на примирении и на осознании своей, а не только чужой, неминуемой запутанности в ошибках, прегрешениях и чувстве вины. Поэтому, как мне кажется, в романе приводится столь подробный (разгромный) разбор ранней новеллы Томаса Манна «Тяжелый час» (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 135 и далее) — чтобы показать, что даже боготворимый Волльшлегером20 Томас Манн прошел обычный для человека путь преодоления собственной глупости и последствий своих ошибочных или порочных поступков. И поэтому последнее творение Рихарда Вагнера стало своего рода лейтмотивным каркасом «Отростков сердца» (или — одним из нескольких таких каркасов).
Я лежу in effigie [=символически, фигурально. — Т. Б.]
(Маска как заместительство — ?
Послесловие, «Последний портрет»)
Мнимая смерть : Переход
в другую сферу
— сферу волновых колебаний
Как Волльшлегер представлял себе такие вещи, он подробно объяснил не в романе, а в лаудацио эссеисту Михаэлю Маару, автору книги о Томасе Манне, в 1995 году. Имеет смысл процитировать его объяснение почти целиком13:
Это [книга Маара] — произведение литературной критики в самом высоком смысле, и в нем соединилось многое: многозначная интерпретация и посредничество между произведением и читателем, общезначимое исповедание поэтологической веры — очень серьезного понимания того, что великий автор, которому посвящено исследование, сам передал ему некое наследие, налагающее определенные обязательства. Наконец, это исследование, сопряженное с серьезным осознанием его автором своих обязательств, можно назвать теологическим, представляющим собой экзегезу: настолько сильно авторский взгляд сконцентрирован на Изначальном; настолько ощутимо присутствует за «Новостями изнутри Волшебной горы»14 исследовательский импульс, восходящий к наидревнейшей Вести. Ведь тогда, очень давно, bereschit15, en arche16, когда Логос Начала, взорвавшись, разлетелся на тысячи тысяч осколков и возник континуум, среди прочего и литературы, одновременно возникла задача: вновь соединить эти частицы, внезапно расщепившиеся в результате взрыва, и посредством команды «Да будет свет» восстановить ту прежнюю мощную взаимосвязь, сделать зримым то, чего мы не можем видеть, но во что все же хотим — метафорически — верить. <…>
Как метод, как ремесло критика, как упражнение в духовной алхимии, филология есть не что иное, как исследование литературных атомов: прояснение структурных связей между столь многими Я-голосами, роящимися в Супер-Эго-Пространстве Литературы. <…> Работа Михаэля Маара о Волшебной горе парадигматически показывает, на примере одного-единственного автора Томаса Манна, как функционирует эволюция слов и произведений: как любой смысл происходит из смыслов, порожденных каким-то другим автором, – как он принимает то, что отдают они, вписанные в Незабываемое, – как любовная связь между одним и другим в конечном итоге становится продуктивной и делает возможным продолжение рода во все более богатой Длительности. <…>
Если — согласно поэтологическому кредо также и Томаса Манна — поэт есть преемник, в должности командующего, Creator’а Spiritus’а, а его произведения – переложения основополагающего произведения, мира, то интерпретаторы перелагают уже созданные произведения еще и еще раз; и если поэты всегда создают автобиографии, то и интерпретаторы бывают порой создателями собственных жизнеописаний. Ибо только так может получиться подлинная реконструкция — только так, на все дальнейшие времена, пишется грандиозный роман с продолжениями, автор которого имеет множество псевдонимов, а в конечном счете является «Духом». То, что этот роман все еще продолжается, что нынешнее бездуховное время не может его оборвать, делает нас счастливыми.
[Creator Spiritus – Дух Животворящий. К нему обращен известный католический гимн, написанный в IX веке: «Veni Creator Spiritus» («О Сотворитель Дух, приди...» в переводе Д. фон Штернбек). Восьмая симфония Густава Малера состоит из двух частей, в основе которых лежат этот гимн и заключительная сцена «Фауста» Гёте (путешествие души Фауста и искупление его вины). Следовало бы отдельно заняться вопросом, как «Отростки сердца» соотносятся с Восьмой симфонией Малера. Тем более, что последняя встреча Адамса и Галланда происходит именно в Мюнхене, где 12 сентября 1810 года состоялась ее премьера.]
И последний вопрос: почему именно «Парсифаль» Вагнера (наряду с некоторыми другими произведениями) играет столь значимую – структурообразующую – роль в романе Волльшлегера?
Рихард Вагнер остается одиозной фигурой для многих людей (скажем, в Германии и в Израиле), даже сейчас. Доказательство тому — современные постановки опер Вагнера, в которых чаще всего, оставляя в неприкосновенности музыку, подставляют под нее чуждое или даже противоположное замыслу автора содержание. Когда я сейчас, в связи с романом Волльшлегера, захотела посмотреть какую-нибудь современную экранизацию «Парсифаля», я выключила фильм в конце Первого действия, как только увидела, что в качестве чаши Грааля фигурирует обнаженный мальчик, которому Амфортас наносит ножевую рану.
Вагнер был любимым композитором Гитлера. В статье Давида Энгельса «„Он ранен – меня жжет эта рана!“ Символика крови в „Парсифале“ Рихарда Вагнера» можно прочитать следующее17:
Поэтому совсем неслучайно, что «Парсифаля» запрещали исполнять во время войны — чтобы увенчать гала-представлением «Парсифаля», в расширенном Байрейтском театре, чаемую победу немцев во Второй мировой войне и чтобы таким образом инаугурировать эпоху германского мирового господства, как Гитлер доверительно сообщил Вольфгангу Вагнеру.
Но для Волльшлегера важно другое, не это извне навязанное вагнеровской опере толкование. Вагнер, как и некоторые другие творцы, о которых идет речь на страницах «Отростков сердца», искал пути к построению более гуманного общества — и к сохранению традиции европейского гуманизма. Название книги, которую пишет Адамс, «Прощание с гуманизмом», надо понимать в том же смысле, что и название статьи Волльшлегера «Прощание Песни с землей. О поздних произведениях Малера»: как печаль или страх в связи с тем, что «сама человечность (das Humanum) отдаляется от людей»18.
По поводу идейной основы «Парсифаля» музыковед Ульрике Кинцле пишет19:
Является ли «Парсифаль» христианской музыкальной драмой? Нам придется ответить на этот вопрос «нет», если мы хотим рассматривать последнее произведение Вагнера как укрепляющее догмы церкви, будь то протестантской или католической. И все же мы вправе ответить «да», если воспринимаем переплетенные пути средневекового и современного мистицизма всерьез, как компоненты христианской традиции. Мистицизм Вагнера отчасти происходит от философии Шопенгауэра и в этом смысле представляет собой мистицизм без Бога. «Парсифаль», похоже, задает вопрос: возможно ли иметь какую бы то ни было религию в нерелигиозную эпоху. <…> В своей последней музыкальной драме Вагнер предлагает этику ненасилия и выступает за примирение между человеком и природой. Его попытка осуществить синтез индийских и христианских верований участвует в межрелигиозном диалоге, который продолжается и сегодня. Вагнер сознавал проблематичный характер такого утопического мировидения. <…> Выражение этой утопии – загадочная фраза «Спасение Спасителю!» — может быть прочтено как констатация факта или мы можем понять его как призыв самим что-то предпринять ради искупления Искупителя.
Добавлю к этому свое, дилетантское, впечатление от вагнеровского «Парсифаля»: поражает в сюжете этой оперы то, что в ней много виновных (к коим можно отнести и Амфортаса, и Парсифаля), но вообще нет речи о наказании или окончательном отторжении кого-то из них. Вопрос стоит только один: как можно тому или иному человеку помочь. (Единственное исключение, может быть, Клингзор.) Все это свойственно и первоисточнику оперы, роману Вольфрама фон Эшенбаха. Там Гурнеманц наставляет юного Парцифаля в законах рыцарства (Вольфрам, Парцифаль, с. 106):
«Стремись священный стыд сберечь,
Знай: без священного стыда
Душа — как птица без гнезда,
Лишенная к тому же крыл...»
И далее проговорил:
«Будь милосерд и справедлив,
К чужим ошибкам терпелив
И помни всюду и везде:
Не оставляй людей в беде.
Спеши, спеши на помощь к ним,
К тем, кто обижен и гоним,
Навек спознавшись с состраданьем,
Как с первым рыцарским даяньем… ...»
Эта этика, похоже, очень близка Волльшлегеру. Этика, основанная не на вражде, а на примирении и на осознании своей, а не только чужой, неминуемой запутанности в ошибках, прегрешениях и чувстве вины. Поэтому, как мне кажется, в романе приводится столь подробный (разгромный) разбор ранней новеллы Томаса Манна «Тяжелый час» (Волльшлегер, Отростки сердца, с. 135 и далее) — чтобы показать, что даже боготворимый Волльшлегером20 Томас Манн прошел обычный для человека путь преодоления собственной глупости и последствий своих ошибочных или порочных поступков. И поэтому последнее творение Рихарда Вагнера стало своего рода лейтмотивным каркасом «Отростков сердца» (или — одним из нескольких таких каркасов).
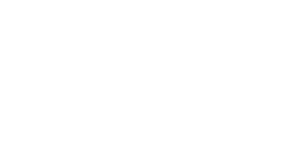
Илл. 14. Посмертная маска Рихарда Вагнера как часть
сценического оформления «Парсифаля» Ханса-Юргена Зиберберга
сценического оформления «Парсифаля» Ханса-Юргена Зиберберга
ПРИЛОЖЕНИЕ
Письмо Зигфрида Унзельда Хансу Волльшлегеру
(по поводу возможности публикации «Отростков сердца»)A1
(Зигфрид Унзельд (1924-2002) — директор издательства «Зуркамп» в 1959-2002 гг.)
(по поводу возможности публикации «Отростков сердца»)A1
(Зигфрид Унзельд (1924-2002) — директор издательства «Зуркамп» в 1959-2002 гг.)
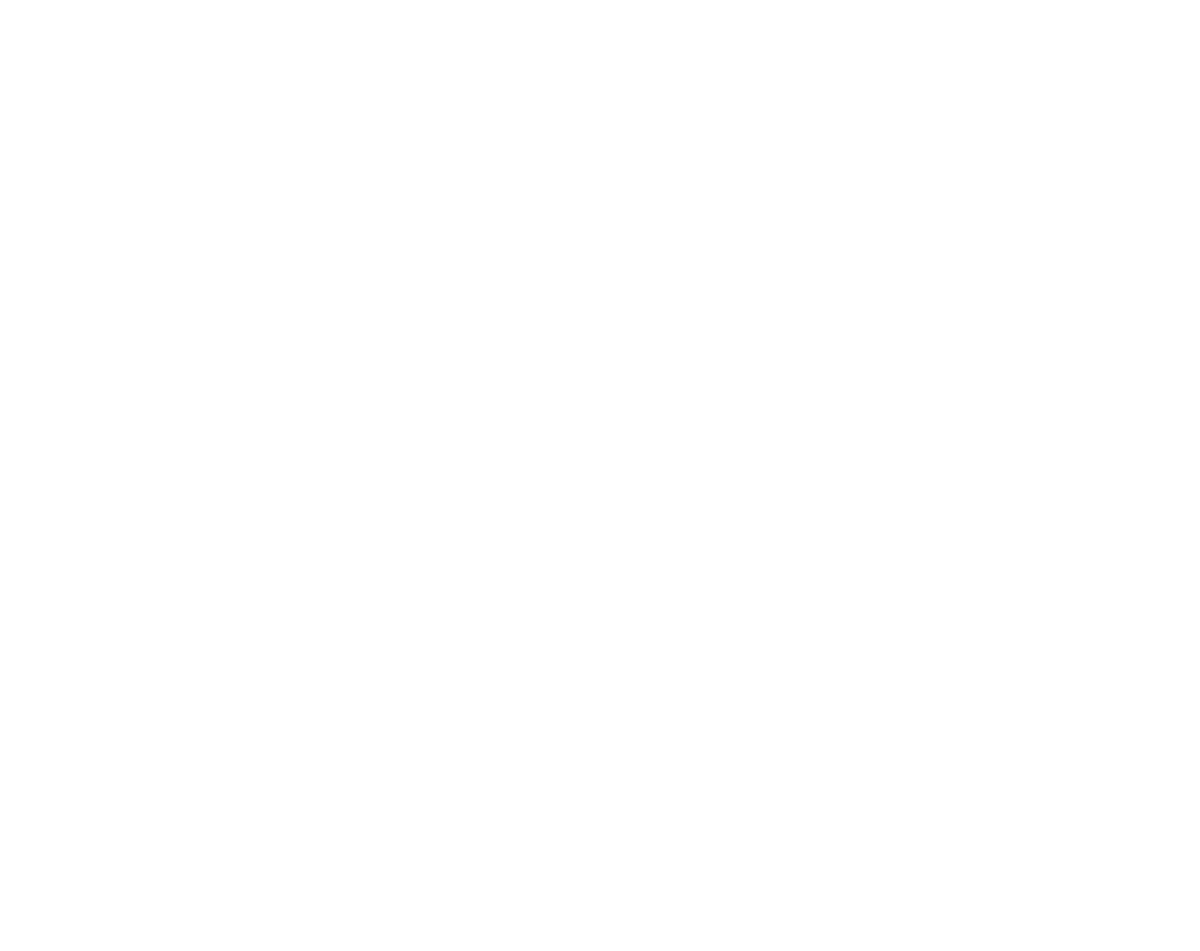
Прил. илл. 1. Зигфрид Унзельд, владелец издательства "Зуркамп", в 1963 г.
[32] Из Франкфурта-на-Майне — Хансу Волльшлегеру в Бамберг
5 декабря 1963
Дорогой господин Волльшлегер,
в 1957 году один молодой автор, который жил в ГДР, прислал нам рукопись под названием «Ингрид Бабендерерде»A2 вместе с письмом, в котором давалось понять, что он хотел бы, если бы эту рукопись удалось опубликовать, увидеть ее опубликованной только в издательстве Брехта. Господин Зуркамп тогда же прочел рукопись и был очень впечатлен ею, он передал ее для прочтения мне, поскольку полагал, что я более компетентен в том, что касается столь молодых авторов. Мне эта рукопись вообще не понравилась, я использовал все мое влияние на Зуркампа, чтобы убедить его отказаться от своего благоприятного мнения. По причинам, которые, главным образом, не имели ничего общего с качеством самой рукописи, сотрудничество Зуркампа с этим автором не состоялось. В марте 1959-го мы получили от того же автора вторую рукопись; сопроводительное письмо было более прохладным, но выдержанным в прежнем тоне. Зуркамп, уже находясь в больнице, успел получить эту рукопись, но отложил ее в сторону и через несколько дней скончался. Я тогда же начал ее читать, с большим трудом вникал в этот текст, вновь и вновь хотел его бросить, сердился на темноты, на запутанный синтаксис, на своевольности стиля и языка, на заковыристую композицию, на, как мне казалось, совершенно невозможные усложнения. Я очень точно помню, что много раз был на грани того, чтобы отказаться от этого дела, но все-таки выдержал до конца и сразу прочел рукопись еще раз. В конце второго прочтения я все еще не вполне понимал этот опус, но у меня сложилось впечатление, что передо мной важный текст, который не только затрагивает меня лично, но действительно имеет отношение ко всем нам и к некоей эпохе. Я потом послал рукопись моему другу Мартину Вальзеру. У него тоже возникли трудности, но в конце концов он посоветовал мне непременно эту книгу издатьA3. Так, значит, обстояло дело с Уве Йонсоном.
Простите, пожалуйста, что сегодня я пишу Вам об этом: Вы по праву можете спросить, какое отношение это имеет к Вам. И на такой вопрос я готов ответить. Я порядочно намучился с Вашей рукописью, трудности при чтении были такими же, как те, что я попытался описать выше. И все же, чтобы сразу предвосхитить дальнейшее, — я потерпел поражение с Вашим текстом. Хотя он оказывает сильнейшее околдовывающее воздействие. Я чувствую, какое необычное артистическое умение стоит за этой рукописью; отдельные ее страницы могут читаться с подлинным удовольствием, с восхищением перед концентрированностью, дисциплинированностью, интенсивностью этой писательской манеры. Перводвигатель такой целостности, без сомнения, гениален, но, дорогой господин Волльшлегер, для меня не стало понятным ядро этой целостности. Я также должен откровенно признаться, что, несмотря на величайшие усилия, не смог проникнуть в суть второй части рукописи и что я не ощущал никакой необходимости перечитать ее первую часть.
Я оценил Ваше действительно высокое писательское достижение. Но я также думаю, что Вы создали нечто такое, что имеет смысл, собственно, лишь для Вас самих. Я не могу представить себе, что найдется больше чем горстка людей, которые справятся с такой книгой. Поймите меня правильно: меня заботит вовсе не хорошая продаваемость книги, хотя я не думаю, что мы нашли бы для нее больше чем сотню читателей; покупателей, возможно, было бы больше, но из каких побуждений совершаются такие покупки… И это сразу наводит меня на другую мысль. Я бы пожелал себе обладания ангельскими языками, чтобы сейчас суметь Вас убедить — суметь Вас заклясть, — что Вам вообще не следует публиковать эту рукопись. Я отдаю себе отчет в том, чтó я, возможно, тем самым делаю с Вами. Вы все равно не сможете последовать моему совету, и я буду последним, кто поставит Вам это в упрек. И все же с тех пор, как я занялся этой рукописью, я сохраняю безусловную веру в писателя Волльшлегера. Кто пишет с такой интенсивностью, будет писать и дальше. Моя надежда состоит в том, что все чрезмерно-странное и запутанное, если оно не относится к фундаменту этой целостности, то есть к языку и стилю, и, значит, не является чем-то природным, подвергнется редукции. Мы ведь в лице Арно Шмидта имеем перед глазами пример, как великий писатель в конце концов запутался в силках и ловушках собственного стиля, пусть и гениальным образом. Я хотел бы увидеть, что Вы от такого убереглись.
Такова, значит, ситуация. Я рассказал Вам вначале историю с Уве Йонсоном только потому, что хотел бы допустить – в Вашем случае – возможность, что я во всем очень сильно ошибаюсь, и эта ошибка не будет смягчена, если я напишу Вам, что господа из моей редакции в данный момент разделяют мое суждение.
С чем мы останемся? Захотите ли Вы при таких обстоятельствах еще раз приехать для беседы во Франкфурт? Для меня это было бы очень важно. Я очень желаю себе оставаться на связи с Вами; возможно, мы найдем еще и другие связующие нити. Я охотно заказал бы Вам какой-нибудь перевод. Но понимаю, что, вероятно, сослужу Вам этим плохую службу, поскольку у Вас на уме Другое.
С сердечным приветом,
Ваш
(Доктор Зигфрид Унзельд)
К сожалению, д-р Унзельд не смог лично подписать это письмо, так как должен был отправиться в срочную поездку.
5 декабря 1963
Дорогой господин Волльшлегер,
в 1957 году один молодой автор, который жил в ГДР, прислал нам рукопись под названием «Ингрид Бабендерерде»A2 вместе с письмом, в котором давалось понять, что он хотел бы, если бы эту рукопись удалось опубликовать, увидеть ее опубликованной только в издательстве Брехта. Господин Зуркамп тогда же прочел рукопись и был очень впечатлен ею, он передал ее для прочтения мне, поскольку полагал, что я более компетентен в том, что касается столь молодых авторов. Мне эта рукопись вообще не понравилась, я использовал все мое влияние на Зуркампа, чтобы убедить его отказаться от своего благоприятного мнения. По причинам, которые, главным образом, не имели ничего общего с качеством самой рукописи, сотрудничество Зуркампа с этим автором не состоялось. В марте 1959-го мы получили от того же автора вторую рукопись; сопроводительное письмо было более прохладным, но выдержанным в прежнем тоне. Зуркамп, уже находясь в больнице, успел получить эту рукопись, но отложил ее в сторону и через несколько дней скончался. Я тогда же начал ее читать, с большим трудом вникал в этот текст, вновь и вновь хотел его бросить, сердился на темноты, на запутанный синтаксис, на своевольности стиля и языка, на заковыристую композицию, на, как мне казалось, совершенно невозможные усложнения. Я очень точно помню, что много раз был на грани того, чтобы отказаться от этого дела, но все-таки выдержал до конца и сразу прочел рукопись еще раз. В конце второго прочтения я все еще не вполне понимал этот опус, но у меня сложилось впечатление, что передо мной важный текст, который не только затрагивает меня лично, но действительно имеет отношение ко всем нам и к некоей эпохе. Я потом послал рукопись моему другу Мартину Вальзеру. У него тоже возникли трудности, но в конце концов он посоветовал мне непременно эту книгу издатьA3. Так, значит, обстояло дело с Уве Йонсоном.
Простите, пожалуйста, что сегодня я пишу Вам об этом: Вы по праву можете спросить, какое отношение это имеет к Вам. И на такой вопрос я готов ответить. Я порядочно намучился с Вашей рукописью, трудности при чтении были такими же, как те, что я попытался описать выше. И все же, чтобы сразу предвосхитить дальнейшее, — я потерпел поражение с Вашим текстом. Хотя он оказывает сильнейшее околдовывающее воздействие. Я чувствую, какое необычное артистическое умение стоит за этой рукописью; отдельные ее страницы могут читаться с подлинным удовольствием, с восхищением перед концентрированностью, дисциплинированностью, интенсивностью этой писательской манеры. Перводвигатель такой целостности, без сомнения, гениален, но, дорогой господин Волльшлегер, для меня не стало понятным ядро этой целостности. Я также должен откровенно признаться, что, несмотря на величайшие усилия, не смог проникнуть в суть второй части рукописи и что я не ощущал никакой необходимости перечитать ее первую часть.
Я оценил Ваше действительно высокое писательское достижение. Но я также думаю, что Вы создали нечто такое, что имеет смысл, собственно, лишь для Вас самих. Я не могу представить себе, что найдется больше чем горстка людей, которые справятся с такой книгой. Поймите меня правильно: меня заботит вовсе не хорошая продаваемость книги, хотя я не думаю, что мы нашли бы для нее больше чем сотню читателей; покупателей, возможно, было бы больше, но из каких побуждений совершаются такие покупки… И это сразу наводит меня на другую мысль. Я бы пожелал себе обладания ангельскими языками, чтобы сейчас суметь Вас убедить — суметь Вас заклясть, — что Вам вообще не следует публиковать эту рукопись. Я отдаю себе отчет в том, чтó я, возможно, тем самым делаю с Вами. Вы все равно не сможете последовать моему совету, и я буду последним, кто поставит Вам это в упрек. И все же с тех пор, как я занялся этой рукописью, я сохраняю безусловную веру в писателя Волльшлегера. Кто пишет с такой интенсивностью, будет писать и дальше. Моя надежда состоит в том, что все чрезмерно-странное и запутанное, если оно не относится к фундаменту этой целостности, то есть к языку и стилю, и, значит, не является чем-то природным, подвергнется редукции. Мы ведь в лице Арно Шмидта имеем перед глазами пример, как великий писатель в конце концов запутался в силках и ловушках собственного стиля, пусть и гениальным образом. Я хотел бы увидеть, что Вы от такого убереглись.
Такова, значит, ситуация. Я рассказал Вам вначале историю с Уве Йонсоном только потому, что хотел бы допустить – в Вашем случае – возможность, что я во всем очень сильно ошибаюсь, и эта ошибка не будет смягчена, если я напишу Вам, что господа из моей редакции в данный момент разделяют мое суждение.
С чем мы останемся? Захотите ли Вы при таких обстоятельствах еще раз приехать для беседы во Франкфурт? Для меня это было бы очень важно. Я очень желаю себе оставаться на связи с Вами; возможно, мы найдем еще и другие связующие нити. Я охотно заказал бы Вам какой-нибудь перевод. Но понимаю, что, вероятно, сослужу Вам этим плохую службу, поскольку у Вас на уме Другое.
С сердечным приветом,
Ваш
(Доктор Зигфрид Унзельд)
К сожалению, д-р Унзельд не смог лично подписать это письмо, так как должен был отправиться в срочную поездку.
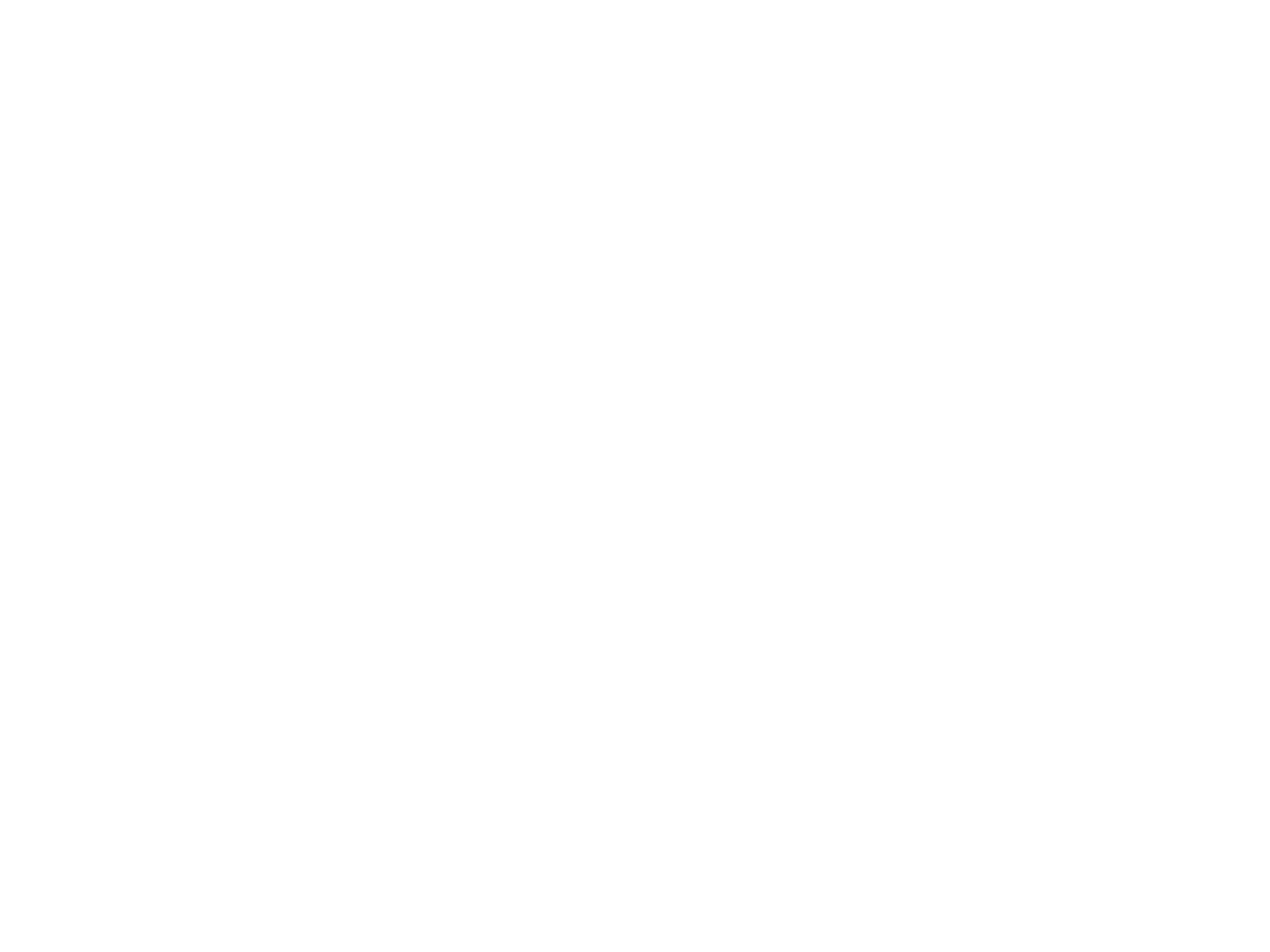
Прил. илл. 2. Фотография Ханса Волльшлегера и его архив в Бамбергской городской библиотеке


