Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Для Русселя не существовало большего гения, и из чувства благоговения и уважения он даже воспрещал своим друзьям упоминать при нем имя Верна.
То же касается и Марка Форда с его недавним переводом «Новых африканских впечатлений» — огромной поэмы, последнего произведения Русселя, изогнутый карточный домик которого возводится парентезами.
Новый роман (фр.), (прим. переводчика).
«Это было лучшее из всех всепрощений, это было худшее из всех всепрощений» (Перевод выполнен по словарю Ожегова в соответствии с правилом N+7, при условии, что N ∊ {ср. род}, [прим. переводчика]).
Речь идет о книге «This Is What Happens When Talk Ends» Гейла Нельсона (прим. переводчика).
Среди еще живых писателей Мэтьюз, пожалуй, наиболее близок к захватывающей странности Русселя. Но помимо своих двух ранних «русселевских» романов Мэтьюз в дальнейшем писал весьма разноплановые тектсты, большая часть которых свободна от явных ограничений, в том числе и увлекательные фиктивные мемуары «Моя жизнь в ЦРУ». (Харри Мэтьюз умер в 2017 году, [прим. переводчика]).
Опубликовано в HARPER’S MAGAZINE / NOVEMBER 2011
La Doublure: поразительные выдумки Раймона Русселя
Автор Бен Маркус
Перевод Никиты Федосова
Иллюстрации: Рут Мартен, Бен Маркус

«Африканские впечатления», один из самых странных романов, когда-либо написанных, не имеет ничего общего с Африкой. Даже по меркам воображаемой Африки, даже в сравнении с историей вымышленных пространств, зрелища в этом тайном французском романе, опубликованном в 1910 году, настолько решительно фантастичны, что они проступают водяным знаком литературной изобретательной фантазии, высекая одни из самых невероятных образов, когда-либо заключённых в художественную прозу.
Руссель, француз, умерший в 1933 году, невоспетый и отчаявшийся, поставил перед собой цель не допустить, чтобы его путешествия или любой другой жизненный опыт повлияли на написанное им. И всё же он постоянно путешествовал по Европе, Азии и Северной Африке, иногда с комфортом расположившись в изготовленном на заказ туристическом автодоме, который позволял ему предаваться чтению любимых писателей, пока за окном пролетали мимо пейзажи, не привлекая его внимания. И, словно опасаясь, что в противном случае его могли бы обвинить в мошенничестве, Руссель утверждал: «За все эти путешествия я ни разу ничего не позаимствовал для своих книг».
Психолог Русселя, доктор Пьер Жане, заметил, что в отношении литературы его пациент придерживался самых строгих стандартов. Она не должна была «содержать ничего реального, никаких высказанных наблюдений за миром или разумом, ничего, кроме полностью выдуманных комбинаций».
Всё это немного сужает поле зрения. То, что вдохновляло творчество Русселя — несколько романов, поэм и пьес, — было настолько поразительно странными видениями, что шокировало даже сюрреалистов. Но Руссель не хотел иметь с ними ничего общего, хотя они и были среди его немногочисленных сторонников. Он считал их интерес к себе досадной помехой. Сюрреалисты занимали радикальную, маргинальную, враждебную позицию по отношению к собственной аудитории, в то время как Руссель был уверен, что его ждёт слава, и не только слава, но и широчайший успех, как у самого почитаемого им писателя — Жюля Верна1.
«Я непременно достигну высот», — заявлял он. «Я был рождён для ослепительной славы. Возможно, её время ещё не пришло, но мне суждено купаться в лучах славы, большей, чем у Виктора Гюго или Наполеона… Эта слава отразится на всех моих произведениях без исключения; она распространится на все события моей жизни: люди будут изучать факты из моего детства и восхищаться тем, как я играл в бары».
Молодым писателям, вероятно, можно простить редкое проявление нескромных убеждений. В любом случае, подобное бахвальство, как правило, остаётся без огласки. Но русселево галлюцинирование славой было почти столь же бредовым, как и образность его книг. Когда ему было девятнадцать лет и он работал над «Подставным лицом», которое биограф и самый талантливый толкователь творчества писателя Марк Форд назвал «унылой, скрупулёзно детализированной, чрезвычайно длинной поэмой», Руссель буквально ощущал литературное сияние, пронизывающее его самого, его письменные принадлежности и его комнату. Сияние было настолько ослепительным, что Русселю пришлось задернуть шторы, опасаясь, что любой, кто увидит его лицо, будет ослеплён исходящими от него лучами.
Спустя годы, когда ему стало ясно, что мощность его лица исчисляется вполне заурядным значением ватт, Руссель обратился с вопросом к секретарю другого своего любимого писателя, Пьера Лоти:
Руссель, француз, умерший в 1933 году, невоспетый и отчаявшийся, поставил перед собой цель не допустить, чтобы его путешествия или любой другой жизненный опыт повлияли на написанное им. И всё же он постоянно путешествовал по Европе, Азии и Северной Африке, иногда с комфортом расположившись в изготовленном на заказ туристическом автодоме, который позволял ему предаваться чтению любимых писателей, пока за окном пролетали мимо пейзажи, не привлекая его внимания. И, словно опасаясь, что в противном случае его могли бы обвинить в мошенничестве, Руссель утверждал: «За все эти путешествия я ни разу ничего не позаимствовал для своих книг».
Психолог Русселя, доктор Пьер Жане, заметил, что в отношении литературы его пациент придерживался самых строгих стандартов. Она не должна была «содержать ничего реального, никаких высказанных наблюдений за миром или разумом, ничего, кроме полностью выдуманных комбинаций».
Всё это немного сужает поле зрения. То, что вдохновляло творчество Русселя — несколько романов, поэм и пьес, — было настолько поразительно странными видениями, что шокировало даже сюрреалистов. Но Руссель не хотел иметь с ними ничего общего, хотя они и были среди его немногочисленных сторонников. Он считал их интерес к себе досадной помехой. Сюрреалисты занимали радикальную, маргинальную, враждебную позицию по отношению к собственной аудитории, в то время как Руссель был уверен, что его ждёт слава, и не только слава, но и широчайший успех, как у самого почитаемого им писателя — Жюля Верна1.
«Я непременно достигну высот», — заявлял он. «Я был рождён для ослепительной славы. Возможно, её время ещё не пришло, но мне суждено купаться в лучах славы, большей, чем у Виктора Гюго или Наполеона… Эта слава отразится на всех моих произведениях без исключения; она распространится на все события моей жизни: люди будут изучать факты из моего детства и восхищаться тем, как я играл в бары».
Молодым писателям, вероятно, можно простить редкое проявление нескромных убеждений. В любом случае, подобное бахвальство, как правило, остаётся без огласки. Но русселево галлюцинирование славой было почти столь же бредовым, как и образность его книг. Когда ему было девятнадцать лет и он работал над «Подставным лицом», которое биограф и самый талантливый толкователь творчества писателя Марк Форд назвал «унылой, скрупулёзно детализированной, чрезвычайно длинной поэмой», Руссель буквально ощущал литературное сияние, пронизывающее его самого, его письменные принадлежности и его комнату. Сияние было настолько ослепительным, что Русселю пришлось задернуть шторы, опасаясь, что любой, кто увидит его лицо, будет ослеплён исходящими от него лучами.
Спустя годы, когда ему стало ясно, что мощность его лица исчисляется вполне заурядным значением ватт, Руссель обратился с вопросом к секретарю другого своего любимого писателя, Пьера Лоти:
Больше всего мне хотелось бы узнать, довелось ли господину Пьеру Лоти, в его девятнадцать-двадцать лет, когда он начал писать и обнаружил, что одарен гением, испытывать в течение кратковременного промежутка в несколько месяцев ощущения лучезарной славы… Которое было бы исключительно внутренним переживанием и, несомненно, влекло бы за собой ужасное разочарование, когда после первых изданных произведений публика тот час же не осознала, что он родился великим поэтом.
Сведения об ответе отсутствуют. Русселю с отчаянностью хотелось верить, что у него есть что-то общее с его литературными кумирами, особенно в ранних творческих всплесках, которые, будучи однажды спущенными на публику, мгновенно разрывают культуру и указывают литературе путь для дальнейшего продвижения вперед. Любопытное желание сродства для столь своеобразного писателя, чье творчество до сих пор остается единственным экспонатом в своем подразделе.
Но оторванность Русселя от действительности не была совсем уж неадекватной. Его произведения указывали путь многим творцам: в частности, поэтам и живописцам, которые, пускай и не всегда плененные русселевскими темами, брали заметное равнение на его технику. Жан Кокто назвал его «Прустом грёз». Мишель Фуко написал целую книгу о Русселе, «Смерь и лабиринт». Марсель Дюшан упоминает Русселя как определяющее ранее влияние, записывая на его имя источник вдохновения для «Новобрачной, раздетой догола её холостяками, даже», известной как «Большое стекло». В Америке поэты нью-йоркской школы были теми, кто первым влюбился в Русселя, в их числе и Джон Эшбери с Кеннетом Кохом, которые вместе с романистом Харри Мэтьюзом издавали во Франции журнал, названный в честь второго романа Русселя, «Locus Solus».
Мне, неспособному прочесть его на французском, припоминается, как двадцать лет назад среди некоторых его поклонников царило общее мнение, что Русселю еще только предстоит получить свой безукоризненный перевод, акт прозаической дипломатии, что утвердит его статус среди широкого круга читателей. В то время существовал только один перевод «Африканский впечатлений», и он давно был раскуплен. Но, отыскавшись, этот перевод, будто бы препятствовал вхождению в чудесный мир Русселя, являя сложную, почти непролазно выспреннюю поверхность. Проза мастера представала дремучей, сухой и технической, перегруженной страдательными залогами, избыточностью и абстракциями.
В лице Марка Полиззотти Руссель наконец-то нашел своего безупречного переводчика2. Полиззотти по пятам следует за выверенно спроектированным языком Русселя и создает верную оригиналу английскую версию, не лишая ее лежащего в основе книги ощущения загадочности.
Но оторванность Русселя от действительности не была совсем уж неадекватной. Его произведения указывали путь многим творцам: в частности, поэтам и живописцам, которые, пускай и не всегда плененные русселевскими темами, брали заметное равнение на его технику. Жан Кокто назвал его «Прустом грёз». Мишель Фуко написал целую книгу о Русселе, «Смерь и лабиринт». Марсель Дюшан упоминает Русселя как определяющее ранее влияние, записывая на его имя источник вдохновения для «Новобрачной, раздетой догола её холостяками, даже», известной как «Большое стекло». В Америке поэты нью-йоркской школы были теми, кто первым влюбился в Русселя, в их числе и Джон Эшбери с Кеннетом Кохом, которые вместе с романистом Харри Мэтьюзом издавали во Франции журнал, названный в честь второго романа Русселя, «Locus Solus».
Мне, неспособному прочесть его на французском, припоминается, как двадцать лет назад среди некоторых его поклонников царило общее мнение, что Русселю еще только предстоит получить свой безукоризненный перевод, акт прозаической дипломатии, что утвердит его статус среди широкого круга читателей. В то время существовал только один перевод «Африканский впечатлений», и он давно был раскуплен. Но, отыскавшись, этот перевод, будто бы препятствовал вхождению в чудесный мир Русселя, являя сложную, почти непролазно выспреннюю поверхность. Проза мастера представала дремучей, сухой и технической, перегруженной страдательными залогами, избыточностью и абстракциями.
В лице Марка Полиззотти Руссель наконец-то нашел своего безупречного переводчика2. Полиззотти по пятам следует за выверенно спроектированным языком Русселя и создает верную оригиналу английскую версию, не лишая ее лежащего в основе книги ощущения загадочности.

Если Руссель и устремлялся к жюль-верновским высотам, то он не собирался достигать их схожим образом. Никаких безотрывно-читаемых, держащих-в-напряжении книг; Руссель чурался шумно мчавшегося повествовательного наступления приключенческих романов Верна, создавая произведения, в которых история скромно прибывает задним числом, иногда не являясь вовсе. В самом деле, «история» — наименее притягательный, наименьший по убедительности русселевский литературный прием, и когда она распрямляется во весь свой рост, возможно из некоего обеспокоенного желания обратится к аудитории пошире, она скрипуча и надуманна.
Русселевская вдохновенная альтернатива — структурно организовывать свои романы на манер представления под куполом цирка, развертывая каскад невидальщин, каждая из которых рассчитана затмить собой предыдущую. Это блистательная, технологичная сторона Верна, лишенная сюжета, персонажей, драмы. Один лишь фанатизм Руба Голдберга, парад машиноподобных изобретений, даже если эти машины порой мягкие, с включениями людей и животных, трупов, костей, органов, крови. Процессия странных эпизодов у Русселя движется так быстро, что эффект — опьяняющее беспокойство, исходящее от мира столь восхитительно яркого, если не совершенно неузнаваемого, — почти изнуряющий. У Русселя Верн уварен до чистой, причудливой эссенции.
Изощренность «Африканских впечатлений» прямолинейна. Группа направляющихся в Аргентину европейцев терпит кораблекрушение у берегов Африки, где они оказываются в плену у местного царя. Ожидая выплаты за них выкупа, пленники вместе с царем развлекают друг друга остроумными выступлениями.
В ходе таких выступлений один из царских сыновей закалывает грызуна, после чего опускает животное в лужицу его же «липкой слюны», которая приклеивает грызуна к дверце, словно мышь к клеевой ловушке. Окунув в слюну свою набедренную повязку, мальчик выжидает разнесения по ветру запаха убитого зверя. Вскоре пикирует хищная птица, чтобы сожрать грызуна, но обнаруживает, что ее лапы прилипли к слюне. Птица в панике порывается взлететь, а мальчик, вцепившись в повязку, свисающую с дверцы, тащится за ней вверх, поднимаясь в воздух. Та-дам.
И среди показанных в книге номеров этот — один из самых умеренных. В другом кольчатый червь, размещенный в корыте над цитрой, выделяет жидкость, которая капает на струны цитры, производя на свет прекраснейшую музыку. Рассказчик замечает, без всякой иронии, что «Ни один механический элемент не участвовал в этом персональном представлении [червя-виртуоза] … исполнявшего определенный фрагмент каждый раз по-разному, и чья деликатная интерпретация была предметом многочисленных дискуссий».
Выступления продолжают сменять друг друга на манер шоу талантов из будущего, нередко отличаясь искусностью, достигнутой с помощью магических средств. Руссель одержим компетентностью, выполнением необычайно сложных задач, даже, или в особенности, если у этих задач нет никакой практической цели.
Человек без конечностей управляет музыкальным автоматом. Меткий стрелок выстрелами сбивает белок со сваренного всмятку яйца, водруженного на столб. Мужчина по имени Людовик, которому «удалось разобщить свои губы и язык на независимые друг от друга участки», безупречно исполняет четырехголосную вокализацию «Братца Якова». Птица приводит в движение платформу, катящуюся по отлитым из телячьих легких рельсам, — возможно, самый завидный образ, когда-либо встреченный мною в романах. Отец и шесть его сыновей выстраивают эхо-машину, используя исключительно свои тела. Отец расставляет парней по всему полю, словно бейсболистов, затем вырявкивает звук, который отскакивает от груди каждого сына. Молодого человека с травмой мозга исцеляют гипнотизирующим аппаратом, который одурманивает его во время просмотра видеозаписей из детства. В эпизоде, предвосхищающем «В исправительной колонии» Кафки, мужчину убивают выписыванием подделанного им документа раскаленной кочергой на его же пятках. Из менее зловещих: приводимый в движении водой ткацкий станок производит фотореалистичные текстильные изделия, «не уступающие картинам мастеров». А брошенные в реку пастилки, растворяясь, являют образы танцовщиц на трапезном столе. Рассказчик, наблюдая это зрелище, замечает, что «водяной рисунок был настолько детализирован, что местами на скатерти проглядывались тени от крошек».
В одной безумной сцене изобретатель по имени Фюсье демонстрирует модифицированный сорт винограда, который функционирует наподобие миниатюрной телепрограммы. За светопроницаемой кожицей винограда перед зрителями предстает
Русселевская вдохновенная альтернатива — структурно организовывать свои романы на манер представления под куполом цирка, развертывая каскад невидальщин, каждая из которых рассчитана затмить собой предыдущую. Это блистательная, технологичная сторона Верна, лишенная сюжета, персонажей, драмы. Один лишь фанатизм Руба Голдберга, парад машиноподобных изобретений, даже если эти машины порой мягкие, с включениями людей и животных, трупов, костей, органов, крови. Процессия странных эпизодов у Русселя движется так быстро, что эффект — опьяняющее беспокойство, исходящее от мира столь восхитительно яркого, если не совершенно неузнаваемого, — почти изнуряющий. У Русселя Верн уварен до чистой, причудливой эссенции.
Изощренность «Африканских впечатлений» прямолинейна. Группа направляющихся в Аргентину европейцев терпит кораблекрушение у берегов Африки, где они оказываются в плену у местного царя. Ожидая выплаты за них выкупа, пленники вместе с царем развлекают друг друга остроумными выступлениями.
В ходе таких выступлений один из царских сыновей закалывает грызуна, после чего опускает животное в лужицу его же «липкой слюны», которая приклеивает грызуна к дверце, словно мышь к клеевой ловушке. Окунув в слюну свою набедренную повязку, мальчик выжидает разнесения по ветру запаха убитого зверя. Вскоре пикирует хищная птица, чтобы сожрать грызуна, но обнаруживает, что ее лапы прилипли к слюне. Птица в панике порывается взлететь, а мальчик, вцепившись в повязку, свисающую с дверцы, тащится за ней вверх, поднимаясь в воздух. Та-дам.
И среди показанных в книге номеров этот — один из самых умеренных. В другом кольчатый червь, размещенный в корыте над цитрой, выделяет жидкость, которая капает на струны цитры, производя на свет прекраснейшую музыку. Рассказчик замечает, без всякой иронии, что «Ни один механический элемент не участвовал в этом персональном представлении [червя-виртуоза] … исполнявшего определенный фрагмент каждый раз по-разному, и чья деликатная интерпретация была предметом многочисленных дискуссий».
Выступления продолжают сменять друг друга на манер шоу талантов из будущего, нередко отличаясь искусностью, достигнутой с помощью магических средств. Руссель одержим компетентностью, выполнением необычайно сложных задач, даже, или в особенности, если у этих задач нет никакой практической цели.
Человек без конечностей управляет музыкальным автоматом. Меткий стрелок выстрелами сбивает белок со сваренного всмятку яйца, водруженного на столб. Мужчина по имени Людовик, которому «удалось разобщить свои губы и язык на независимые друг от друга участки», безупречно исполняет четырехголосную вокализацию «Братца Якова». Птица приводит в движение платформу, катящуюся по отлитым из телячьих легких рельсам, — возможно, самый завидный образ, когда-либо встреченный мною в романах. Отец и шесть его сыновей выстраивают эхо-машину, используя исключительно свои тела. Отец расставляет парней по всему полю, словно бейсболистов, затем вырявкивает звук, который отскакивает от груди каждого сына. Молодого человека с травмой мозга исцеляют гипнотизирующим аппаратом, который одурманивает его во время просмотра видеозаписей из детства. В эпизоде, предвосхищающем «В исправительной колонии» Кафки, мужчину убивают выписыванием подделанного им документа раскаленной кочергой на его же пятках. Из менее зловещих: приводимый в движении водой ткацкий станок производит фотореалистичные текстильные изделия, «не уступающие картинам мастеров». А брошенные в реку пастилки, растворяясь, являют образы танцовщиц на трапезном столе. Рассказчик, наблюдая это зрелище, замечает, что «водяной рисунок был настолько детализирован, что местами на скатерти проглядывались тени от крошек».
В одной безумной сцене изобретатель по имени Фюсье демонстрирует модифицированный сорт винограда, который функционирует наподобие миниатюрной телепрограммы. За светопроницаемой кожицей винограда перед зрителями предстает
облаченный в доспехи рыцарь, спящий в тени величественного дерева; в тончайшей пелене исходившей от его лба дымки, призванной отобразить содержание его сновидений, можно было различить дьявола, вооружившегося длинной пилой, отточенные зубья которой вонзались в скрученное судорогой тело проклятого святого.
Демонстрируется множество таких виноградин, но последняя самая проработанная.
Последняя, десятая ягода, рисовала нам поединок неземных сил и являлась, по словам Фюсье, репродукцией одной из работ Рафаэля. Здесь воспаривший над землей ангел вгонял лезвие меча в грудь Сатаны, покачнувшегося от смертельного удара и выронившего оружие.
Растительный мир в русселевской Африке изощрённо подвергается манипуляциям для создания машин, которые, сколь они не поразительны, бесполезны. Возможно, поэтому подобная образность отзывается таким беспокойством. В конечном счете непостижимый, без референтов, мир столь отчужден, что у нас не достает инструментов для его оценки. У Русселя технологические достижения выступают не средством для упрощения задач, а, напротив, средством выработки жутковатых волнений и восторгов для праздных свидетелей. Показываемые изобретения, герметично запечатанные от любого практического применения, столь же озадачивающи и безграничны, что и искусность их конструирования. Это глубинные ограничения, как если бы архитектор решил спроектировать здание, используя только шпатлевку.

Последствия канонического перевода Полиззотти несколько удивительны в том, что раскрывается в них о Русселе. Он был, вероятно, не так уж и плохо переведен, что никоим образом не умаляет мастерства Полиззотти. Читающие по-английски могут окончательно постановить, что Руссель и в самом деле, для одержимого визуальными представлениями, был порой умышленно абстрактен в своих свершениях, создавая изнуряюще пассивную прозу, способную затребовать многократных прочтений прежде, чем из нее начнет просачиваться смысл. Руссель часто погрязает в деталях именно в тот момент, когда он должен достигать наибольшей яркости, описывая одну из своих странных машин. Проблема нередко видится в том, что он слишком сильно концентрируется на составных частях, едва ли предоставляя широкий обзор своего образа. Его лицо расположено слишком близко к каркасу, чтобы сказать, как все выглядит на самом деле:
Сама форма этого нового объекта подсказывала мысль о такого рода инсталляции. Похожий внешне на корыто, он был сделан из четырёх кусков слюды. Самые большие листы — два прямоугольника равных размеров, составляли наклонное основание, их края покато соединялись. В дополнение к ним две треугольные секции, прилаженные к прямоугольным с их узких сторон, на противоположных концах, довершали эту просвечивающую штуковину, напоминавшую секцию некоего гигантского широко раскрытого кошелька из жёсткого материала. Зазор шириной с горошину проходил по всей длине дна этого прозрачного корыта.
Такой эвклидичный подход позже возымеет популярность у Алена Роб-Грийе и других практиков nouveau roman3, которые, подобно Русселю, отмахивались от внутреннего мира персонажей или полностью истребляли его, тщательно вглядываясь в поверхности и все остальное нечеловеское, что они могли найти, используя прозу как инструмент. Это была атака на приторные тропы реализма, его стремления поставить психологию в центр литературы. Словно люди, их потребности и желания вовсе не имели значения! Но у Русселя трудно ощутить порой непроницаемую прозу как целенаправленное эстетическое высказывание, что было у Роб-Грийе, который мог заставить двадцатистраничное описание веревочки казаться наэлектризованным («Соглядатай») и который, разумеется, открыто признавал влияние Русселя.
Комплексность и уклончивость русселевской прозы может представать, в своем лучшем свете, как необходимый ингибитор воображения, которое в противном случае слишком взрывоопасно, слишком загадочно. Сесть и прочесть эту книгу сложно. Угловатый, переопределенный язык принуждает к замедленному темпу, к пристальному чтению — что углубляет таинственность. Ничто в литературе не подготовило нас к чему-то столь рациональному, что оно все еще выглядит безумным. Семантически безукоризненные предложения при внимательном изучении становятся озадачивающими:
Комплексность и уклончивость русселевской прозы может представать, в своем лучшем свете, как необходимый ингибитор воображения, которое в противном случае слишком взрывоопасно, слишком загадочно. Сесть и прочесть эту книгу сложно. Угловатый, переопределенный язык принуждает к замедленному темпу, к пристальному чтению — что углубляет таинственность. Ничто в литературе не подготовило нас к чему-то столь рациональному, что оно все еще выглядит безумным. Семантически безукоризненные предложения при внимательном изучении становятся озадачивающими:
Движение челночной коробки совпадало с едва заметными смещениями в ремизке, определенные галева которой опускались, пока другие поднимались. Работа протекала незаметно от наших глаз в толще верхушки, в которой использовались лишь тонкие пазы, позволявшие проходить исполинской бахроме, натянутой легионом свинцовых узких грузиков, свисавших чуть выше уровня груди. Каждая шелковая нить основы, по отдельности продетая в глазок одной из галев, была, соответственно, приподнята или опущена на несколько сантиметров.
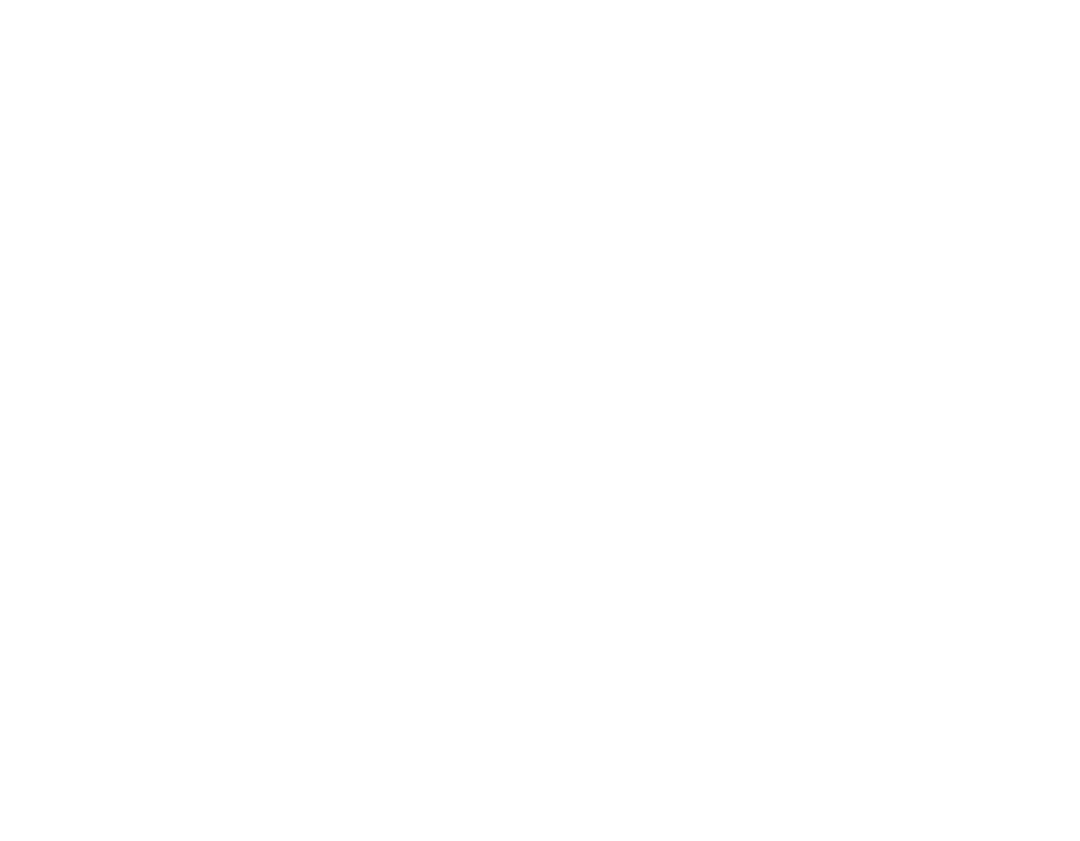
То, о чем Руссель никогда не говорил при жизни — приберегая раскрытие для посмертной публикации, — был его скрупулезный метод литературного сочинительства, внебрачный ребенок, порожденный математикой и остроумием, словесная игра, втиснутая в туннель из корсетов. В книге «Как я написал некоторые из моих книг», опубликованной после его смерти, Руссель совершает признание, ощущаемое им как объясняющее все, в чем оно, разумеется, не преуспевает. О своем творчестве он пишет: «Здесь задействован совершенно особенный метод. Мне кажется, что раскрыть мой метод — это мой долг, ибо у меня сложилось впечатление, что, возможно, писатели будущего смогут плодотворно использовать его».
Для написания большинства своих книг Руссель выбирал два почти одинаковых слова, служивших ему началом и концом — внутри абзацев, внутри глав, внутри всей книги целиком, — а затем пытался выстроить логичную последовательность, или что-то в таком духе, от одного слова к другому. Вот как он это описывает:
Для написания большинства своих книг Руссель выбирал два почти одинаковых слова, служивших ему началом и концом — внутри абзацев, внутри глав, внутри всей книги целиком, — а затем пытался выстроить логичную последовательность, или что-то в таком духе, от одного слова к другому. Вот как он это описывает:
К примеру, billard [стол для бильярда] и pillard [грабитель]. К ним я добавил похожие слова с двумя различными значениями, тем самым получив две почти что одинаковые фразы…
Итак, две фразы найдены, теперь дело за написанием рассказа, который мог бы начинаться первой фразой, а заканчиваться второй.
Вот из решения этой задачи я и черпал все свои материалы.
Итак, две фразы найдены, теперь дело за написанием рассказа, который мог бы начинаться первой фразой, а заканчиваться второй.
Вот из решения этой задачи я и черпал все свои материалы.
Если все это вам кажется мутным, бессмысленным и трудным для понимания, то вы не одиноки. Руссель намеревался держать этот прием в тайне, и в переводе сокрытие лишь усиливается. Марк Форд в своей биографии Русселя проделывает исключительную работу по выслеживанию воплощений этого ограничения по всем русселевским текстам.
Выдающийся ряд последователей обращался к Русселю за вдохновением, когда они прорабатывали собственные одержимые контролем методологии. Французский писатель Жорж Перек уклонялся от буквы «e» в своем романе «La Disparition»; «Алфавитная Африка» Уолтера Абиша допускала использование всего алфавита, но ограничивала каждую главу использованием слов, начинающихся с определенных букв; «Эвфония» поэта Кристиана Бёка — моновокалична, каждая из пяти глав задействует только одну гласную. Самые известные из последователей — группа УЛИПО, куда входили Раймон Кено и Итало Кальвино, а также Жорж Перек с Харри Мэтьюзом, чьи цели и достижения не получится описать здесь полностью. Со своим математическим фанатизмом они ответственны за широкий набор провокационных ограничений, включая пресловутую N+7 технику, странным образом похожую на «Mad Libs», в которой существительные текста заменяются теми, что следуют за ними в словаре семью статьями ниже4. А вот описание с обложки одного недавно вышедшего сборника стихов:
Выдающийся ряд последователей обращался к Русселю за вдохновением, когда они прорабатывали собственные одержимые контролем методологии. Французский писатель Жорж Перек уклонялся от буквы «e» в своем романе «La Disparition»; «Алфавитная Африка» Уолтера Абиша допускала использование всего алфавита, но ограничивала каждую главу использованием слов, начинающихся с определенных букв; «Эвфония» поэта Кристиана Бёка — моновокалична, каждая из пяти глав задействует только одну гласную. Самые известные из последователей — группа УЛИПО, куда входили Раймон Кено и Итало Кальвино, а также Жорж Перек с Харри Мэтьюзом, чьи цели и достижения не получится описать здесь полностью. Со своим математическим фанатизмом они ответственны за широкий набор провокационных ограничений, включая пресловутую N+7 технику, странным образом похожую на «Mad Libs», в которой существительные текста заменяются теми, что следуют за ними в словаре семью статьями ниже4. А вот описание с обложки одного недавно вышедшего сборника стихов:
Здесь представлены 8 групп по 8 стихотворений. Все стихотворения внутри одной группы следуют последовательности гласных звуков в избранном отрывке из Шекспира. Можно сказать, что это гомовокальные переводы Шекспира, хотя они игнорируют изначальное содержание в попытке выстроить собственную взаимосвязанность. Группы расположены не линейно. Напротив, стихотворения следуют друг за другом в шахматной последовательности, древнейшим из дошедших до нас маршрутов для решения задачи о ходе коня, который приписывается Аль-Адли ар-Руми из Багдада и предположительно датируется 840 годом н. э.5
Мэтьюз, и сам считавшийся отпрыском Русселя, преимущественно благодаря своим первым двум романам, «Конверсиям» и «Дентвительна»6, полагал, что русселевские творения показали ему: «писательство способно обеспечить меня средствами столь радикального облапошивания самого себя, что я смог бы явить наружу свои потаенные переживания, свое „я“, в котором бы никогда не сознался». Другими словами, легкодоступное «я» выступает врагом писателя, чем-то, что нужно перехитрить. Отсюда же и продвижение нарезок Уильямом Берроузом, стратегии сочинительства для обхода собственных унылых склонностей, для высвобождения самого неподатливого материала из своего мозга.
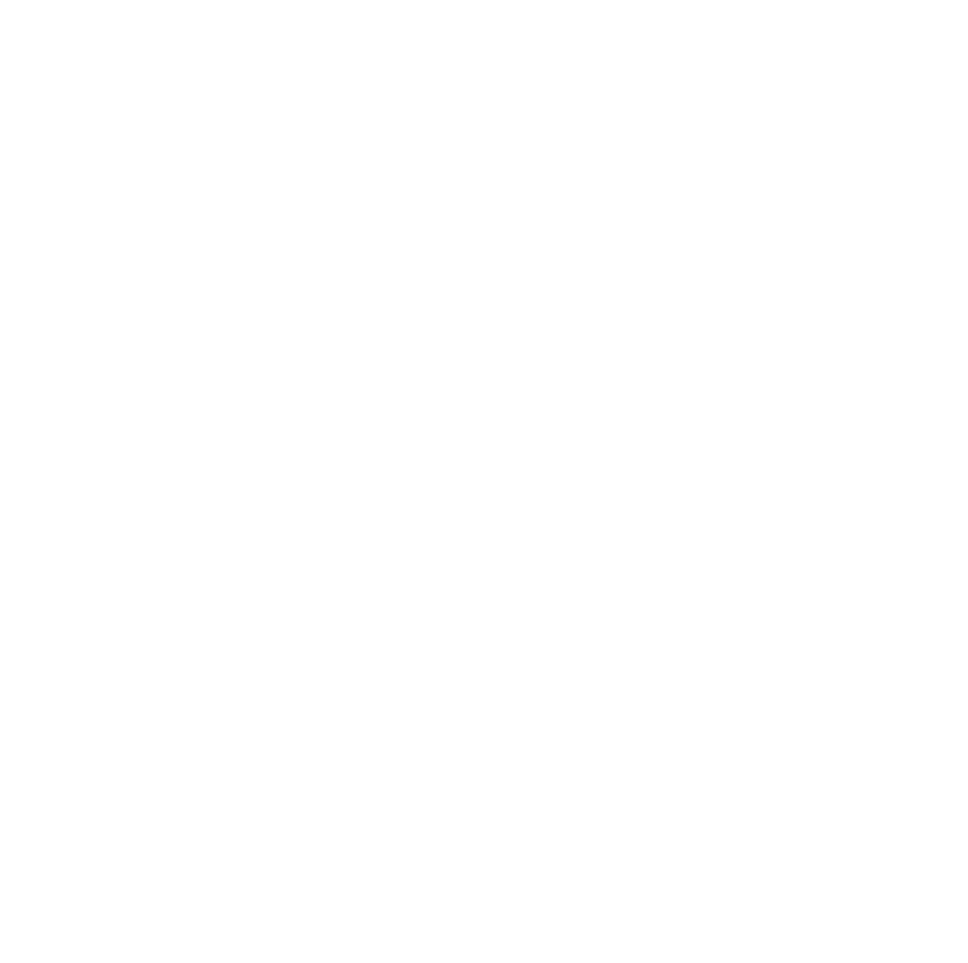
Писательство с ограничениями, в конечном счете, — часть более масштабной стратегии: существенного впрягания креативности. Жанр, форма, стиль: существует ли вообще что-то не ограничивающее? Руссель в своей приверженности единственному диковинному ограничению выказывал веру в то, что один только язык служит хранилищем всего воображения. Ему требовалось всего лишь установить на свои места структуры, чтобы вскрыть его. Изобретенный им метод, возможно, был суеверным, его способом вручную управлять воображением, в противном случае ему недоступным. Систематически, синтаксически, семантически он переключал передаточные механизмы, чтобы привести в движение свои бредовые, соноподобные образы. Внимательное изучение русселевской техники может «объяснить» каждый образ и каждую сцену в «Африканских впечатлениях». Но самой техникой не объяснить безумность результатов — хижину с крышей из книжных страниц, растение с изменчивыми, словно Протей, «конечностями», удерживающими на своих верхушках трех кошек, которые вскоре приводятся во вращательное движение. «Все кошки, слившись в единое целое, образовали сплошной и в зеленую полоску диск, из которого прорывались свирепые стоны».
На протяжении первой сотни страниц «Африканских впечатлений» мы не знаем, где мы и что происходит, не говоря уже о том, к чему демонстрация всех этих изобретений. На середине книги Руссель прерывает процессуальный протокол, чтобы вернуться вспять и объяснить, кто есть кто и как появились на свет все эти изобретения. Любопытный маневр для романа, столь неустанно свободного от объяснений, столь равнодушного к характеризации и психологии. Влезает история, пронзая крайне странную грезу.
Первое издание «Впечатлений» содержало следующее предостережение: «Читателям, не посвященным в искусство Раймона Русселя, рекомендуется читать эту книгу со страницы 212 по страницу 445, а затем со страницы 1 по страницу 211». Идея здесь в том, что подноготная персонажей и повествовательная экспозиция — наши первичные желания как читателей, без которых мы не способны обрабатывать образность, столь решительно отшвартовывающуюся от смысла. Уточнение этого совета, для любого читателя, может заключаться в том, чтобы читать исключительно со страницы 1 по страницу 211 (в новом переводе — по страницу 130).
Что все это говорит об объяснениях, о ими необъясненном? Что восхитительно в загадочной фазе романа, до того, как мы узнаем, как пленники прибыли в Африку, так это отсутствие прояснения, полнейшая непроницаемость русселевских спектаклей, свободных от колесных зажимов предыстории. Снабжение изобретений экспозицией не добавляет лоска их волшебству, и Руссель могущественнее всего тогда, когда он игнорирует условности, которые по всей видимости его лишь угнетают. Это тот самый Руссель — Руссель телячьих легких, мой любимый Руссель — который, не подстилая соломки, написал столь много страниц, создавав собственный цирк изумлений.
На протяжении первой сотни страниц «Африканских впечатлений» мы не знаем, где мы и что происходит, не говоря уже о том, к чему демонстрация всех этих изобретений. На середине книги Руссель прерывает процессуальный протокол, чтобы вернуться вспять и объяснить, кто есть кто и как появились на свет все эти изобретения. Любопытный маневр для романа, столь неустанно свободного от объяснений, столь равнодушного к характеризации и психологии. Влезает история, пронзая крайне странную грезу.
Первое издание «Впечатлений» содержало следующее предостережение: «Читателям, не посвященным в искусство Раймона Русселя, рекомендуется читать эту книгу со страницы 212 по страницу 445, а затем со страницы 1 по страницу 211». Идея здесь в том, что подноготная персонажей и повествовательная экспозиция — наши первичные желания как читателей, без которых мы не способны обрабатывать образность, столь решительно отшвартовывающуюся от смысла. Уточнение этого совета, для любого читателя, может заключаться в том, чтобы читать исключительно со страницы 1 по страницу 211 (в новом переводе — по страницу 130).
Что все это говорит об объяснениях, о ими необъясненном? Что восхитительно в загадочной фазе романа, до того, как мы узнаем, как пленники прибыли в Африку, так это отсутствие прояснения, полнейшая непроницаемость русселевских спектаклей, свободных от колесных зажимов предыстории. Снабжение изобретений экспозицией не добавляет лоска их волшебству, и Руссель могущественнее всего тогда, когда он игнорирует условности, которые по всей видимости его лишь угнетают. Это тот самый Руссель — Руссель телячьих легких, мой любимый Руссель — который, не подстилая соломки, написал столь много страниц, создавав собственный цирк изумлений.
Рассматриваемые в этой статье произведения Раймона Русселя, за исключением упомянутого вскользь романа «Locus Solus», еще ждут своих «безупречных переводчиков» на русский язык. Ряд приводимых Беном Маркусом отрывков нами цитируется по книгам «Антология черного юмора» Андре Бретона (в переводе Сергея Дубина) и «’Патафизика: бесполезный путеводитель» Эндрю Хьюгилла (в переводе Владимира Садовского и под общей редакцией Сергея Дубина).
Роман "Эпоха провода и струны" Бена Маркуса опубликован в нашем издательстве
Библиография Бена Маркуса
Клод Симон — виноградарь и кавалерист, автор Ален Роб-Грийе
Мы как одно, автор Харри Мэттьюз
Библиография Бена Маркуса
Клод Симон — виноградарь и кавалерист, автор Ален Роб-Грийе
Мы как одно, автор Харри Мэттьюз


