Задать вопрос издателю
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Связаться с нами
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Купить у издателя
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Ряд критиков отмечал, что Крюз испытывает глубокую неприязнь и к индустриализованному Югу, и к современности в целом.
Крюз Х., Нагие в Садовых Холмах.: Москва, Kongress W press, 2025. Пер. С. Карпова.
Крюз прямо отсылает к более раннему ответу аграриям, «Божьей делянке» Эрскина Колдуэлла, которая начинается и заканчивается теми же самыми образами, за исключением того, что яма, ограничивающая обзор Тай Тай Уолдену, была вырыта ради золота. Другие многочисленные аллюзии Крюза к роману Колдуэлла — оба названия, например, выражают схожую иронию над романтическими представлениями писателей-аграриев о земле; Плуто Суинт, как и Толстяк, не видит своего тела под огромным раздутым пузом; игра слов Платон/Плутон у Крюза; отец Толстяка расхаживает голым по Садовым Холмам, подобно бежавшему нагишом по улице Уиллу, — наводят на мысль, что, хотя Крюз на протяжении многих лет в интервью и дистанцировался от Колдуэлла, он все же желал признать, что многим ему обязан.
И, как отмечает Эрик Бледсо, Крюз также отсылает к пьесе Клиффорда Одетса «В ожидании Лефти», послужившей источником вдохновения для названия «В ожидании Годо» Беккета.
Как утверждает Джеймс Г. Уоткинс, это видение довольно резко отличается от описания сельской жизни в автобиографии Крюза «Детство: биография места». Для нас, читателей романов Крюза, остается открытым вопрос, как примирить жестокое обращение с южной идентичностью, которое обнаруживается в его романах, с более сентиментальным отношением к этой же идентичности в его опубликованной автобиографии, а также в опубликованных главах его готовящейся к изданию второй автобиографии. Этот контраст отражает расхождение ценностей на самом Юге в двадцатом веке: в «Детстве» Крюз довольно сентиментален в своих воспоминаниях о тех временах, когда еще существовала аграрная сторона его личности; с другой стороны, в его наполненных яростью и ужасом романах повествуется о постлапсарианской аномии персонажей, которые живут в вакууме, порожденном утратой сельской идентичности. Когда Крюз в своем нон-фикшене обращается к аграрной философии сельского юга как к аркадскому идеалу, он близок к аграриям, но в его романах подобная ностальгия отсутствует. И в самом деле, в них едва ли можно обнаружить свидетельство того, что когда-то было иначе.
На протяжении многих лет Крюз подчеркивал эту позицию, в последний раз в интервью с Эриком Бледсо: «мы были родом с совершенного разного Юга, и не думаю, что он когда-либо осознавал это. Папа Лайтла отправил его учиться во Францию. Его папа был плантатором, который ни разу в жизни не притронулся к плугу или черенку инструмента. Моя же семья была белым отребьем, жившим далеко вниз по дороге от большого дома.
Гофман И., Представление себя другим в повседневной жизни.: Москва, Канон-Пресс-Ц, 2000. Здесь и далее пер. А. Ковалева.
Опубликовано в The Southern Literary Journal, Volume 34, Number 1, осень 2001
Страшный сон аграриев: мрачное видение Харри Крюза в романе "Нагие в Садовых Холмах"
Автор Джефф Абернати
Перевод Никиты Федосова
Редактор Стас Кин
Перевод Никиты Федосова
Редактор Стас Кин
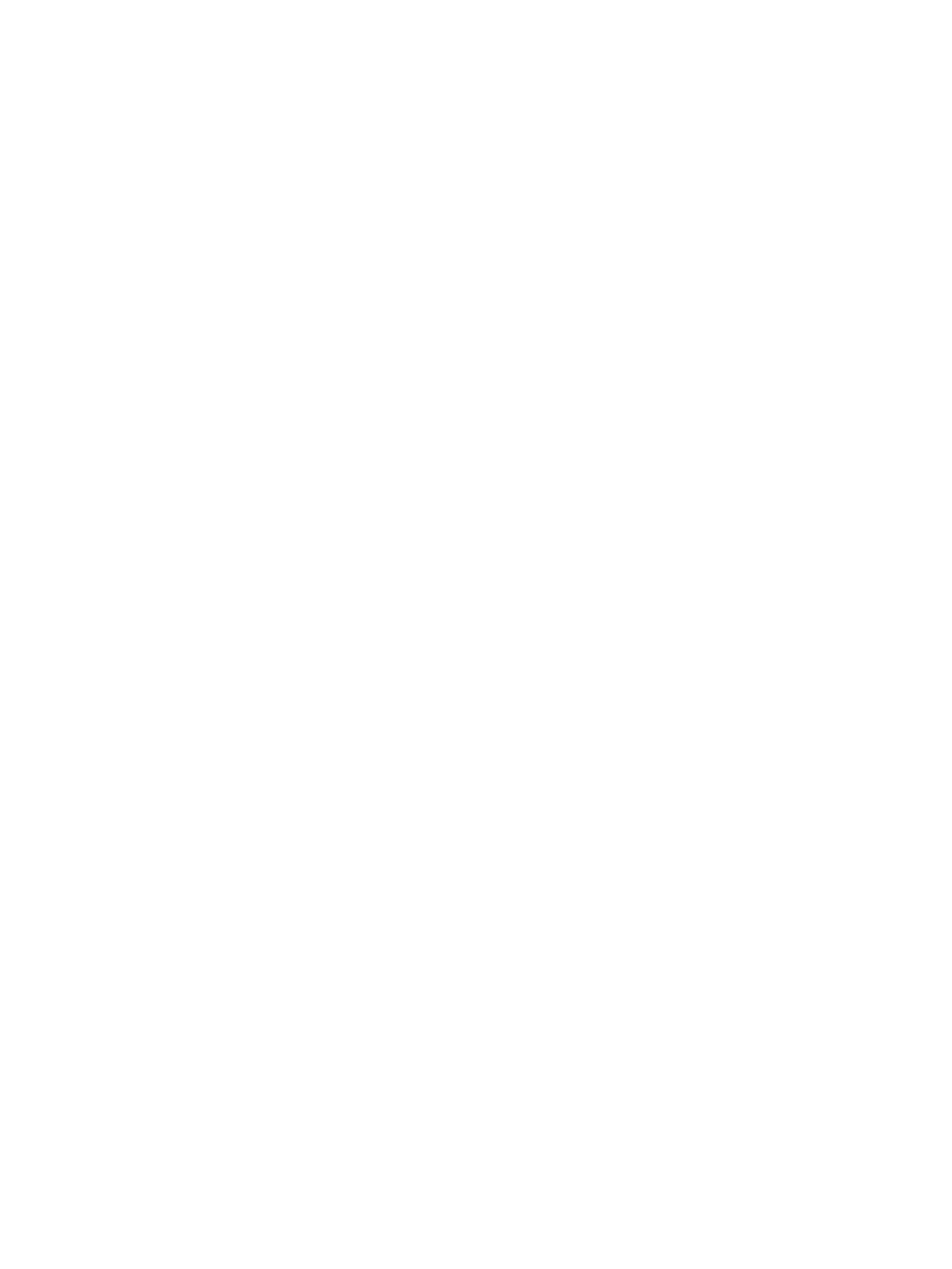
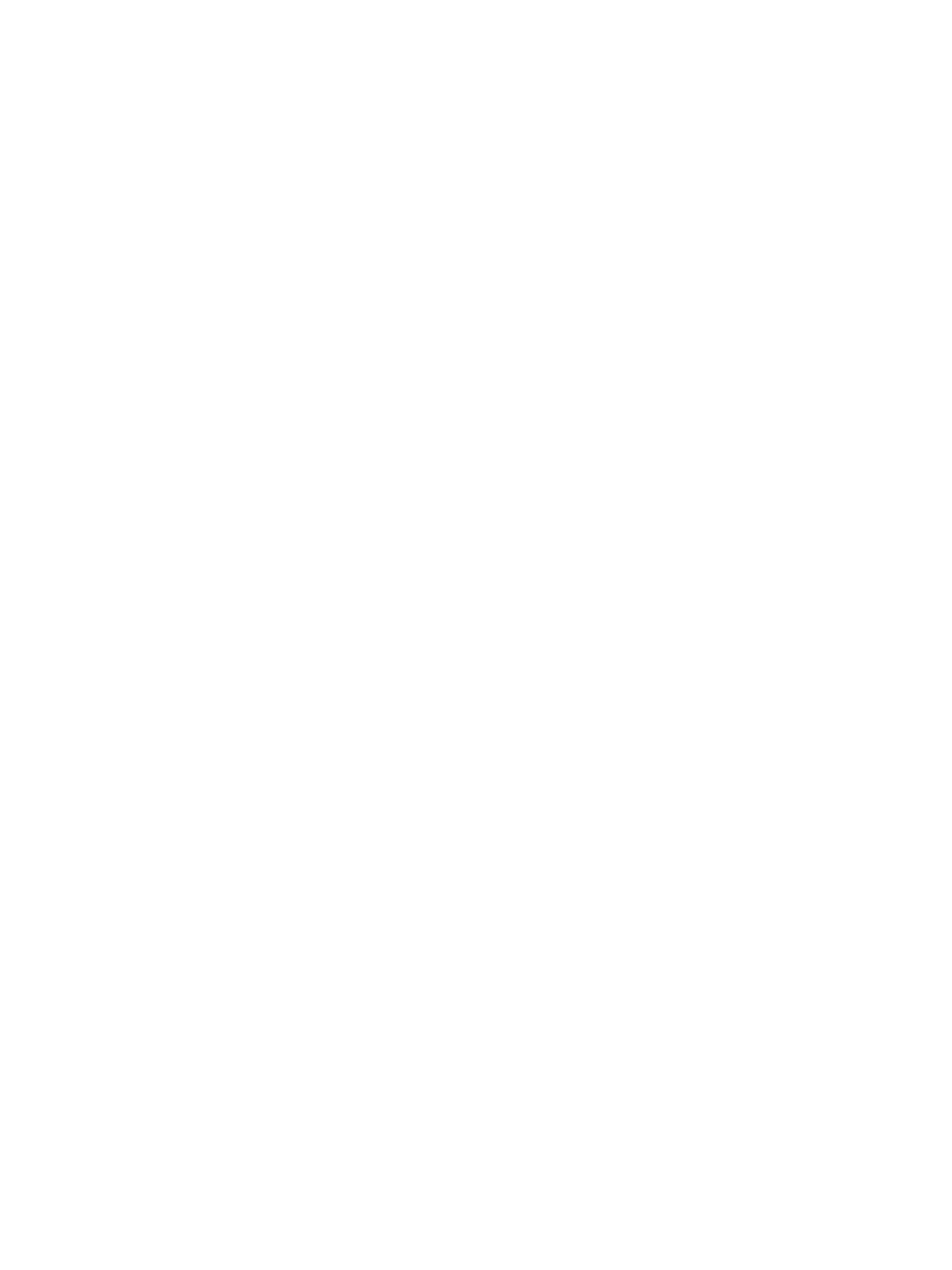
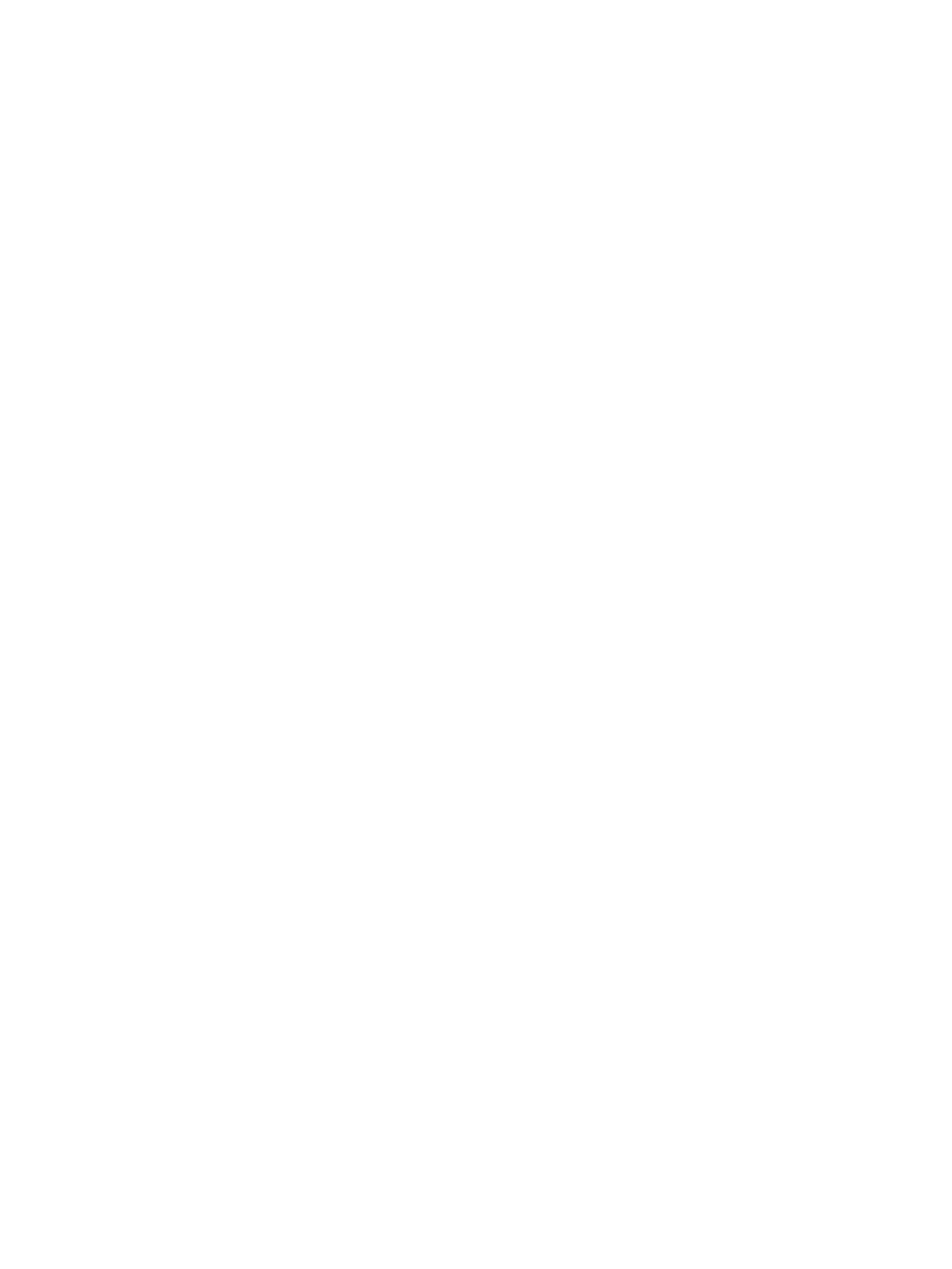
В романах Харри Крюза символы индустриального общества — автомобили и их кладбища, автомагистрали и обломки после аварий, заводы и отходы производства — главенствуют над некогда пасторальными южными пейзажами. Крюз запечатлевает индустриализм двадцатого века и вытекающий из него материализм как коренные причины духовного и культурного упадка в современном мире1. В своем втором романе, «Нагие в Садовых Холмах» (1969), Крюз развивает резкую критику изменений, затронувших в двадцатом веке Юг, которая обращается к доводам писателей-аграриев в 1930-ых годах: гротескность его прозы исходит из индустриального Нового Юга, отказавшегося от сельского хозяйства ради заводов, от священного ради секулярного. Тем не менее, пока Крюз изображает общество, сломленное теми самыми силами, что так беспокоили аграриев, он пародируют их призыв возвратиться к натуральному хозяйству как элитистскую фантазию и в конечном счете не видит возможностей обойти пороки современной культуры.
Ситуация, в которой пребывают персонажи Крюза, ровно та же, что и у идеализированных фермеров сельского Юга, описанных Эндрю Лайтлом — наставником Крюза в Университете Флориды в начале 1950-х годов — в эссе «Не пришей кобыле хвост», его вкладе в ключевой труд писателей-аграриев, «Буду стоять на своем» (1930). В обильно стилизованном повествовательном разделе своего эссе Лайтл живописует падение фермеров — от идиллической Аркадии к современной аномии, — подчеркивая то, во что он и другие аграрии твердо верили: современный прогресс — всего лишь забава простофиль, неизбежно ведущая к утрате индивидуальных и общественных ценностей. Для Лайтла, переход к капиталистической экономике «представляет из себя ужасное зрелище: обезумевшие от своих изобретений люди оказываются вытесненными неодушевленными предметами». Слова Лайтла звучат постулатом для «Нагих в Садовых Холмах», и в этом эссе я рассматриваю связь романа с аграрной традицией, на которую сам Крюз смотрел с большой неоднозначностью.
Как выразительно показывает Харри Крюз в своей книге «Детство: биография места» (1978), он хорошо знаком с теми, о ком писали Лайтл с аграриями, а персонажи его прозы — что-то вроде душ, которые аграрии, особенно Лайтл, в противопоставлении белых бедняков до и после символического грехопадения, оплакивали в своем знаменитом трактате. Роман «Нагие в Садовых Холмах», написанный спустя практически сорок лет после публикации «Буду стоять на своем», во многом перекликается с ранней критикой новой экономики Юга. Оставив ферму позади и отказавшись от сельской жизни, герои Крюза погружаются в промышленную машинерию, преобразившую Юг его детства. Проза Крюза наводит на мысль, что он согласился бы с лайтловским описанием наступления модернизма как «войны не на жизнь, а на смерть между технологией и обыкновенной жизненной деятельностью людей».
Лайтл в своем эссе идет дальше, предсказывая не просто утрату человеческих функций, но и утрату самой человеческой жизни, поскольку переход к новым технологиям становится «доведением дела до конца, до морального и духовного самоубийства, предвещающего настоящее физическое разрушение». Это состояние жизни предвосхищает гротескность, повсеместно встречающуюся в прозе писателей Юга, особенно у Колдуэлла, О’Коннор и Крюза. Читая «Нагих в Садовых Холмах» вместе с «Буду стоять на своем», в особенности с эссе Лайтла, мы обнаруживаем, что мрачное видение современного Юга в романе проистекает из консерватизма, присущего писателям-выходцам из Университета Вандербильта.
Точно так же, как Лайтл предполагает, что проклинающей мантрой модернистского общества будет «поддерживайте работу машин!», будущие жители Садовых Холмов во Флориде сами себе повторяют по кругу известия, когда за годы до основного действия романа они узнают, что приход промышленности уже близко: «Будут рыть»2. И действительно роют, возводя город Садовые Холмы на самом дне этой первой ямы: «Всё росло на глазах: дети, имущество и кучи земли. Особенно кучи. Казалось, с каждым днём Садовые Холмы уходят всё глубже в землю. Горизонт становился меньше. В конце концов приходилось смотреть прямо в небо»3. Как и предсказывали писатели-аграрии, когда мужчины становятся частью производственного процесса, они справляют собственные похороны.
Герои Крюза самоопределяются через доступные им технологии и, в конечном итоге, преклоняются перед этими технологиями и теми, кто ими управляет. Таким образом в романе «Нагие в Садовых Холмах» все двенадцать семей города Садовые Холмы скорбно ожидают возвращения Джека О’Бойлана, бизнесмена, оставившего город и его жителей в запустении. Они почитают заброшенный фосфатный завод О’Бойлана как своего рода алтарь утраченного бога и с нетерпением ждут его возвращения, поскольку не знают альтернативы. Какое бы прошлое у них ни было, оно несущественно для персонажей Крюза, поскольку их кратковременное пребывание в индустриальной культуре лишило их корней. В этом мире, как сказал Крюз о разработке месторождений в двадцатом веке, «культура и, господи боже, экономическая система… убили любой намек на что-либо, напоминающее и способное напоминать божественное естество или первопричину».
Город Садовые Холмы, неизменно выступающий в тексте своего рода ироничным Эдемом, приравненным к Новому Югу, с точки зрения Джека О’Бойлана — обезличенного, похожего на Годо инвестора, принесшего с собой технику во флоридские топи, — стремится к совершенству Эдема, что, в свою очередь, становится точкой зрения всех тех, кто на него работает. Хотя О’Бойлан никогда не посещал само месторождение, он, словно Бог из Книги Бытия, перед постройкой завода по добыче фосфатов посмотрел на отчет геологов и «увидел, что это реально хорошо». Как и сама земля, завод «где фосфат отделяли от почвы, выглядел слишком большим, чтобы его возвели человеческие руки. Он рос сам по себе. Оправдывал сам себя. Он будет там вечно». Образность Крюза отчасти воспроизводит видение Лайтла с его «обезумевшими от своих же изобретений людьми», но он копает глубже, когда уподобляет О’Бойлана беккетовскому Годо. Вера общины в О’Бойлана становится экзистенциалистской шуткой книги. Там, где Лайтл и писатели-аграрии хотели возвратить викторианскую веру из модернистской пустоты, Крюз изображает героев, глазеющих во тьму и цепляющихся за спасение, которое никогда не придет.
Несмотря на то, что рабочие О’Бойлана воспринимают завод как благословение, они задаются вопросом, а какой смысл заложен в их новой идентичности, поскольку они не в состоянии определить, какой вклад вносит их личный труд в добычу фосфатов: когда землекоп Уэс Уэстрим обнаруживает, что он раскапывает ту же самую яму, что он раскапывал в предшествующий день, то начинает подозрительно посматривать на своих товарищей:
Ситуация, в которой пребывают персонажи Крюза, ровно та же, что и у идеализированных фермеров сельского Юга, описанных Эндрю Лайтлом — наставником Крюза в Университете Флориды в начале 1950-х годов — в эссе «Не пришей кобыле хвост», его вкладе в ключевой труд писателей-аграриев, «Буду стоять на своем» (1930). В обильно стилизованном повествовательном разделе своего эссе Лайтл живописует падение фермеров — от идиллической Аркадии к современной аномии, — подчеркивая то, во что он и другие аграрии твердо верили: современный прогресс — всего лишь забава простофиль, неизбежно ведущая к утрате индивидуальных и общественных ценностей. Для Лайтла, переход к капиталистической экономике «представляет из себя ужасное зрелище: обезумевшие от своих изобретений люди оказываются вытесненными неодушевленными предметами». Слова Лайтла звучат постулатом для «Нагих в Садовых Холмах», и в этом эссе я рассматриваю связь романа с аграрной традицией, на которую сам Крюз смотрел с большой неоднозначностью.
Как выразительно показывает Харри Крюз в своей книге «Детство: биография места» (1978), он хорошо знаком с теми, о ком писали Лайтл с аграриями, а персонажи его прозы — что-то вроде душ, которые аграрии, особенно Лайтл, в противопоставлении белых бедняков до и после символического грехопадения, оплакивали в своем знаменитом трактате. Роман «Нагие в Садовых Холмах», написанный спустя практически сорок лет после публикации «Буду стоять на своем», во многом перекликается с ранней критикой новой экономики Юга. Оставив ферму позади и отказавшись от сельской жизни, герои Крюза погружаются в промышленную машинерию, преобразившую Юг его детства. Проза Крюза наводит на мысль, что он согласился бы с лайтловским описанием наступления модернизма как «войны не на жизнь, а на смерть между технологией и обыкновенной жизненной деятельностью людей».
Лайтл в своем эссе идет дальше, предсказывая не просто утрату человеческих функций, но и утрату самой человеческой жизни, поскольку переход к новым технологиям становится «доведением дела до конца, до морального и духовного самоубийства, предвещающего настоящее физическое разрушение». Это состояние жизни предвосхищает гротескность, повсеместно встречающуюся в прозе писателей Юга, особенно у Колдуэлла, О’Коннор и Крюза. Читая «Нагих в Садовых Холмах» вместе с «Буду стоять на своем», в особенности с эссе Лайтла, мы обнаруживаем, что мрачное видение современного Юга в романе проистекает из консерватизма, присущего писателям-выходцам из Университета Вандербильта.
Точно так же, как Лайтл предполагает, что проклинающей мантрой модернистского общества будет «поддерживайте работу машин!», будущие жители Садовых Холмов во Флориде сами себе повторяют по кругу известия, когда за годы до основного действия романа они узнают, что приход промышленности уже близко: «Будут рыть»2. И действительно роют, возводя город Садовые Холмы на самом дне этой первой ямы: «Всё росло на глазах: дети, имущество и кучи земли. Особенно кучи. Казалось, с каждым днём Садовые Холмы уходят всё глубже в землю. Горизонт становился меньше. В конце концов приходилось смотреть прямо в небо»3. Как и предсказывали писатели-аграрии, когда мужчины становятся частью производственного процесса, они справляют собственные похороны.
Герои Крюза самоопределяются через доступные им технологии и, в конечном итоге, преклоняются перед этими технологиями и теми, кто ими управляет. Таким образом в романе «Нагие в Садовых Холмах» все двенадцать семей города Садовые Холмы скорбно ожидают возвращения Джека О’Бойлана, бизнесмена, оставившего город и его жителей в запустении. Они почитают заброшенный фосфатный завод О’Бойлана как своего рода алтарь утраченного бога и с нетерпением ждут его возвращения, поскольку не знают альтернативы. Какое бы прошлое у них ни было, оно несущественно для персонажей Крюза, поскольку их кратковременное пребывание в индустриальной культуре лишило их корней. В этом мире, как сказал Крюз о разработке месторождений в двадцатом веке, «культура и, господи боже, экономическая система… убили любой намек на что-либо, напоминающее и способное напоминать божественное естество или первопричину».
Город Садовые Холмы, неизменно выступающий в тексте своего рода ироничным Эдемом, приравненным к Новому Югу, с точки зрения Джека О’Бойлана — обезличенного, похожего на Годо инвестора, принесшего с собой технику во флоридские топи, — стремится к совершенству Эдема, что, в свою очередь, становится точкой зрения всех тех, кто на него работает. Хотя О’Бойлан никогда не посещал само месторождение, он, словно Бог из Книги Бытия, перед постройкой завода по добыче фосфатов посмотрел на отчет геологов и «увидел, что это реально хорошо». Как и сама земля, завод «где фосфат отделяли от почвы, выглядел слишком большим, чтобы его возвели человеческие руки. Он рос сам по себе. Оправдывал сам себя. Он будет там вечно». Образность Крюза отчасти воспроизводит видение Лайтла с его «обезумевшими от своих же изобретений людьми», но он копает глубже, когда уподобляет О’Бойлана беккетовскому Годо. Вера общины в О’Бойлана становится экзистенциалистской шуткой книги. Там, где Лайтл и писатели-аграрии хотели возвратить викторианскую веру из модернистской пустоты, Крюз изображает героев, глазеющих во тьму и цепляющихся за спасение, которое никогда не придет.
Несмотря на то, что рабочие О’Бойлана воспринимают завод как благословение, они задаются вопросом, а какой смысл заложен в их новой идентичности, поскольку они не в состоянии определить, какой вклад вносит их личный труд в добычу фосфатов: когда землекоп Уэс Уэстрим обнаруживает, что он раскапывает ту же самую яму, что он раскапывал в предшествующий день, то начинает подозрительно посматривать на своих товарищей:
А они-то что-нибудь делают? Все ночные смены отменяют то, что делают дневные? Привозят ли по ночам грузовик всё то, что увезли ребята днём? Движутся ли конвейеры по ночам в противоположную сторону? Эти вопросы никогда не оставляли его до конца. И он гадал, задаются ли ими другие. В конечном счёте Уэс стал задумываться и переживать о Джеке О’Бойлане. Адский способ вести предприятие.
Обезличенный труд двадцатого века сбивает с толку и отчуждает этих рабочих, как и предсказывали Лайтл с аграриями. Процеживая философию аграриев через Беккета и театр абсурда4, гротескность Крюза заставляет читателя задуматься над центральной модернистской дилеммой. Его герои собирают воедино свои расколотые жизни из противоречий, олицетворяющих для Крюза современность: коллекционер книг, неспособный настроиться на чтение, и в то же время толстяк, жаждущий похудеть, но выпивающий больше двух ящиков диетического напитка в день; жокей, боящийся лошадей; танцовщица гоу-гоу и в то же время разочаровавшаяся девственница; землекоп, роющий одну и ту же яму снова и снова.
В начале романа двенадцать семей надеются вновь обрести славу заводских времен, но они блуждают словно изгнанные из Эдема без каких-либо удерживающих знаний, потому что завод уничтожил их прежнее представление о предназначении человека. С того дня, когда «опустилась жуткая тишина», когда завод закрылся, они остались, но на смену прежней мантре — «они будут рыть!» — пришли экзистенциальные раздумья. Былое вопрошание о самом заводе — Что они делают в Садовых Холмах? — теперь становится ироничным комментированием собственных апатичных жизней, а ответом вопрошанию звучит — «Никто не знает!»
Закрытие завода возвращает жителей Садовых Холмов в дотехнологическое, доиндустриальное общество, и Крюз с жестокой иронией изображает пустоту их жизни в отсутствие преобразившей их заводской экономики. Поскольку у них нет электричества, Уэсу пришлось заниматься перевозкой льда, используя телегу. Город перенесся в девятнадцатый век, в подражание аграрной философии, но его жители все еще опустошены двадцатым веком и не в силах его отпустить. Крюз высмеивает призыв писателей-аграриев вернуться к натуральному хозяйству и создает мир, воплощающий в себе их страшный сон: вступив в индустриальный и материальный мир, его герои не имеют возможности вновь обратиться к миру, что поддерживал их в былые времена. Успех в этом изуродованном мире приходит только к тем, кто способен действовать согласно его законам.
На вершине Садовых Холмов проживает единственный из главных героев, кто сопротивляется соблазнам современности, Мэйхью Аарон, к которому все без исключения обращаются по едва ли не карнавальному прозвищу «Толстяк». Джек О’Бойлан приобрел по заоблачной цене небольшой участок земли у отца Толстяка; после этого семья поселилась в роскошном доме, построенном по подобию фосфатного завода, с копией «Сотворения Адама» Микеланджело на потолке в ванной комнате, ироническим символом приносимого О’Бойланом разрушения. Жена Мейхью-старшего — эмблематическая для Старого Юга фигура в своем религиозном напоре и сопротивлению переменам — умирает вскоре после завершения строительства завода, убежденная, что Садовые Холмы — это ад на Земле. Как и ее муж с сыном, в тексте она выступает насмешкой над аграриями, а ее крик предупреждает о грядущих ужасающих последствиях: «Ни один человек не знает, почему делает то, что делает, в этом богом забытом месте». Мэйхью-старший сходит с ума из-за воспоминаний о жене и начинает расхаживать голым по Садовым Холмам. В конце концов, он бросается под дробилку фосфатов и его продают вместе с мешком удобрений. Рассказчик насмешливо замечает: «Это исполнение его самой сокровенной мечты. Это возмездие».
После смерти отца Толстяк живет в доме один, становясь гарантом выживания города, потому что он понимает, что и сам без него не выживет. Ему помогает бывший жокей, в чьем имени видна аллюзия Крюза на недостатки технологии — Джон Генри, — но известный исключительно как Шут, паяц. Толстяк не может осуществить ни одного из двух своих желаний: сбросить лишний вес и возобновить отношения с отвергшим его годы назад любимым человеком, бегуном на длинные дистанции из Университета Северной Флориды. Безопасность Толстяка и его беспрестанное увеличение в обхвате оказываются под угрозой, когда он отдает оставшиеся деньги своему партнеру в Садовых Холмах, Долли, для которой единственно сохранившимися истинами служат деньги и власть. Этот урок она усвоила в Нью-Йорке, где Долли, по-видимому, обнаружила, что никакого Джека О’Бойлана не существует. В Нью-Йорке девушка пришла к выводу, что от обоюдной ненасытности людей защищает один лишь «договор», и этот урок она принесла с собой в Садовые Холмы.
По возвращении Долли заполняет оставленный Джеком О’Бойланом вакуум. Осознав, что все жители Садовых Холмов фрики — от ста пятидесяти сантиметрового Толстяка до ста двадцати сантиметрового Шута, она приходит к выводу, что будущее за туризмом, и только в качестве фриков жители будут иметь экономическую ценность. Когда она устанавливает телескоп в небольшом парке с видом на город — Парке Заботы, сошедшем с ковейера в Пеории, штат Иллинойс, и доставленном на грузовиках, — зеваки начинают останавливаться возле него и наблюдать. Как замечает Гарри Лонг, «Крюз направляет свой гнев не на то, кем он и его земляки были, а на то, кем они стали — туристами», людьми, которые ничего не знают и не ведают обязательств перед семьей и общиной. А Крюз идет дальше, заставляя читателя почувствовать связь с теми в ужасе глазеющими туристами; для них, как и для нас, страх заключается в том, что фрик-шоу — ничто иное как зеркало.
Таким образом Долли переориентирует Садовые Холмы для нужд шоу. Если Крюз изображает Джека О’Бойлона как Эндрю Карнеги, бросающего ту самую общину, которой он дает надежду, то гений Долли больше похож на гений Ф. Т. Барнума или даже Уолта Диснея, превратившего болото недалеко от Флориды в экстраординарную ловушку для туристов. В образовавшемся из-за упадка новой индустрии вакууме, лишившем человеческие поступки смысла, труд становится представлением, а представление становится трудом: Долли возобновляет проведение конкурса «Фосфатной Королевы», чья победительница вознесется в клетке на обозрение туристам.
Как и большинство героев романа, Уэс Уэстрим возвращает себе гордость, как только Долли возвращает его к труду, несмотря на то, что завод по-прежнему закрыт, а от него требуется лишь перетаскивать взад-вперед землю на дне ямы: «Прямо как в старые времена. И все смотрели на него с тоской и ностальгией, когда он возвращался домой с ног до головы покрытый сырым белым пластилином фосфорной почвы: кепка, одежда, руки, шея, и на лице — маска с дырками, чтобы смотреть и дышать». Подобно Лазарю, Уэс обретает, благодаря предприятию Долли, не столько жизнь, сколько своего рода смерть, пускай его единственная реакция на это — смесь гордости и удивления. Когда Долли снова нанимает Уэса на работу в ту самую фосфатную яму, на дне которой он работал на Джека О’Бойлана, он и его семья особенно гордятся тем, что он становится пятнадцатым номером в списке «Достопримечательностей» для разглядывания в телескоп. Его дочь замечает: «Ты — шоу-биз, пап!» Новая экономика породила абсурдный мир, где люди изолированы друг от друга, их жизни лишились смысла и стали абстрактными из-за столь ценимого ими труда: и здесь Уэс празднует собственное погребение.
Долли понимает, что только будучи исполнителями гротесков, жители могут быть также и товаром, чем, собственно, заводская система — новая теология — велит им быть. Только Толстяк не может смириться с ролью, сводящейся к строчке в туристическом справочнике, и чурается оказываемого туристами внимания, вскрикивая в ужасе, когда при взгляде в бинокль остается с глазу на глаз с туристом, в свою очередь смотрящим на него в телескоп.
В одном из ранних интервью Крюз проливает свет на обращение к аграрной идеологии в своей прозе. Явно соглашаясь с аграрной мыслью в отношении факта трансформации южной культуры в двадцатом веке, Крюз расходится с писателями-аграриями в своем отказе выносить моральный вердикт этой трансформации:
В начале романа двенадцать семей надеются вновь обрести славу заводских времен, но они блуждают словно изгнанные из Эдема без каких-либо удерживающих знаний, потому что завод уничтожил их прежнее представление о предназначении человека. С того дня, когда «опустилась жуткая тишина», когда завод закрылся, они остались, но на смену прежней мантре — «они будут рыть!» — пришли экзистенциальные раздумья. Былое вопрошание о самом заводе — Что они делают в Садовых Холмах? — теперь становится ироничным комментированием собственных апатичных жизней, а ответом вопрошанию звучит — «Никто не знает!»
Закрытие завода возвращает жителей Садовых Холмов в дотехнологическое, доиндустриальное общество, и Крюз с жестокой иронией изображает пустоту их жизни в отсутствие преобразившей их заводской экономики. Поскольку у них нет электричества, Уэсу пришлось заниматься перевозкой льда, используя телегу. Город перенесся в девятнадцатый век, в подражание аграрной философии, но его жители все еще опустошены двадцатым веком и не в силах его отпустить. Крюз высмеивает призыв писателей-аграриев вернуться к натуральному хозяйству и создает мир, воплощающий в себе их страшный сон: вступив в индустриальный и материальный мир, его герои не имеют возможности вновь обратиться к миру, что поддерживал их в былые времена. Успех в этом изуродованном мире приходит только к тем, кто способен действовать согласно его законам.
На вершине Садовых Холмов проживает единственный из главных героев, кто сопротивляется соблазнам современности, Мэйхью Аарон, к которому все без исключения обращаются по едва ли не карнавальному прозвищу «Толстяк». Джек О’Бойлан приобрел по заоблачной цене небольшой участок земли у отца Толстяка; после этого семья поселилась в роскошном доме, построенном по подобию фосфатного завода, с копией «Сотворения Адама» Микеланджело на потолке в ванной комнате, ироническим символом приносимого О’Бойланом разрушения. Жена Мейхью-старшего — эмблематическая для Старого Юга фигура в своем религиозном напоре и сопротивлению переменам — умирает вскоре после завершения строительства завода, убежденная, что Садовые Холмы — это ад на Земле. Как и ее муж с сыном, в тексте она выступает насмешкой над аграриями, а ее крик предупреждает о грядущих ужасающих последствиях: «Ни один человек не знает, почему делает то, что делает, в этом богом забытом месте». Мэйхью-старший сходит с ума из-за воспоминаний о жене и начинает расхаживать голым по Садовым Холмам. В конце концов, он бросается под дробилку фосфатов и его продают вместе с мешком удобрений. Рассказчик насмешливо замечает: «Это исполнение его самой сокровенной мечты. Это возмездие».
После смерти отца Толстяк живет в доме один, становясь гарантом выживания города, потому что он понимает, что и сам без него не выживет. Ему помогает бывший жокей, в чьем имени видна аллюзия Крюза на недостатки технологии — Джон Генри, — но известный исключительно как Шут, паяц. Толстяк не может осуществить ни одного из двух своих желаний: сбросить лишний вес и возобновить отношения с отвергшим его годы назад любимым человеком, бегуном на длинные дистанции из Университета Северной Флориды. Безопасность Толстяка и его беспрестанное увеличение в обхвате оказываются под угрозой, когда он отдает оставшиеся деньги своему партнеру в Садовых Холмах, Долли, для которой единственно сохранившимися истинами служат деньги и власть. Этот урок она усвоила в Нью-Йорке, где Долли, по-видимому, обнаружила, что никакого Джека О’Бойлана не существует. В Нью-Йорке девушка пришла к выводу, что от обоюдной ненасытности людей защищает один лишь «договор», и этот урок она принесла с собой в Садовые Холмы.
По возвращении Долли заполняет оставленный Джеком О’Бойланом вакуум. Осознав, что все жители Садовых Холмов фрики — от ста пятидесяти сантиметрового Толстяка до ста двадцати сантиметрового Шута, она приходит к выводу, что будущее за туризмом, и только в качестве фриков жители будут иметь экономическую ценность. Когда она устанавливает телескоп в небольшом парке с видом на город — Парке Заботы, сошедшем с ковейера в Пеории, штат Иллинойс, и доставленном на грузовиках, — зеваки начинают останавливаться возле него и наблюдать. Как замечает Гарри Лонг, «Крюз направляет свой гнев не на то, кем он и его земляки были, а на то, кем они стали — туристами», людьми, которые ничего не знают и не ведают обязательств перед семьей и общиной. А Крюз идет дальше, заставляя читателя почувствовать связь с теми в ужасе глазеющими туристами; для них, как и для нас, страх заключается в том, что фрик-шоу — ничто иное как зеркало.
Таким образом Долли переориентирует Садовые Холмы для нужд шоу. Если Крюз изображает Джека О’Бойлона как Эндрю Карнеги, бросающего ту самую общину, которой он дает надежду, то гений Долли больше похож на гений Ф. Т. Барнума или даже Уолта Диснея, превратившего болото недалеко от Флориды в экстраординарную ловушку для туристов. В образовавшемся из-за упадка новой индустрии вакууме, лишившем человеческие поступки смысла, труд становится представлением, а представление становится трудом: Долли возобновляет проведение конкурса «Фосфатной Королевы», чья победительница вознесется в клетке на обозрение туристам.
Как и большинство героев романа, Уэс Уэстрим возвращает себе гордость, как только Долли возвращает его к труду, несмотря на то, что завод по-прежнему закрыт, а от него требуется лишь перетаскивать взад-вперед землю на дне ямы: «Прямо как в старые времена. И все смотрели на него с тоской и ностальгией, когда он возвращался домой с ног до головы покрытый сырым белым пластилином фосфорной почвы: кепка, одежда, руки, шея, и на лице — маска с дырками, чтобы смотреть и дышать». Подобно Лазарю, Уэс обретает, благодаря предприятию Долли, не столько жизнь, сколько своего рода смерть, пускай его единственная реакция на это — смесь гордости и удивления. Когда Долли снова нанимает Уэса на работу в ту самую фосфатную яму, на дне которой он работал на Джека О’Бойлана, он и его семья особенно гордятся тем, что он становится пятнадцатым номером в списке «Достопримечательностей» для разглядывания в телескоп. Его дочь замечает: «Ты — шоу-биз, пап!» Новая экономика породила абсурдный мир, где люди изолированы друг от друга, их жизни лишились смысла и стали абстрактными из-за столь ценимого ими труда: и здесь Уэс празднует собственное погребение.
Долли понимает, что только будучи исполнителями гротесков, жители могут быть также и товаром, чем, собственно, заводская система — новая теология — велит им быть. Только Толстяк не может смириться с ролью, сводящейся к строчке в туристическом справочнике, и чурается оказываемого туристами внимания, вскрикивая в ужасе, когда при взгляде в бинокль остается с глазу на глаз с туристом, в свою очередь смотрящим на него в телескоп.
В одном из ранних интервью Крюз проливает свет на обращение к аграрной идеологии в своей прозе. Явно соглашаясь с аграрной мыслью в отношении факта трансформации южной культуры в двадцатом веке, Крюз расходится с писателями-аграриями в своем отказе выносить моральный вердикт этой трансформации:
Новый Юг появился из-за зажиточности, телевидения; интонации в речи сходят на нет или уже вовсе исчезли. Дети в Лудоуиси, что в Джорджии, вместо того, чтобы слушать, как их дедушка разговаривает или рассказывает им истории об их дяде, маме, слушают телевизор, а у телевизора, разумеется, нет никакого акцента. У телевизионной речи нет каких-либо отличительных черт. Парень из Калифорнии звучит так же как парень из Флориды, так же как парень из Техаса. Короче, речь пошла по швам. Зажиточность привела к ужасающей мобильности. Сельское хозяйство стало чем-то вроде тяжелой промышленности, вместо крохотной фермы. Я не утверждаю, что все это плохо. Я просто хочу сказать, что все те характерные черты Юга — и нечто вроде верности крови, и подозрительность по отношению к аутсайдерам, и лелеяние привычного, и неприятие непривычного — все это разрушилось. Из-за мобильности, телевидения и зажиточности люди просто не могут больше прозябать на пятачке фермерского труда. И вот так все это сгинуло, и глупо говорить или думать иначе.
Крюз не выказывает ностальгии по утраченному прошлому, столь сильно волновавшей писателей-аграриев: «Я не утверждаю, что все это плохо». Впрочем, прочесть роман Харри Крюза, значит осознать, что практически все пошло наперекосяк, что поддерживающие человеческую жизнь ценности — для Крюза в первую очередь любовь, а за ней вера, — ускользают даже от тех, кто целиком отдается их поиску. Его собственная роль, как он предполагает в интервью, состоит лишь в том, чтобы просто свидетельствовать подобные трансформации в качестве беспристрастного наблюдателя. Его беспристрастность обязана его собственному экзистенциалистскому мышлению: в то время как Лайтл и аграрии полагали, что мир, в который можно вернуться, существует — Лайтл беспечно пытался воодушевить сельских южан «выкинуть радио и снять со стены скрипку», чтобы вновь вернуться к буколической жизни, — мрачное видение Крюза5 не допускает такой возможности.
Сам Крюз тщательно проводит границу между собственными философией и бэкграундом и таковыми у Лайтла. В интервью Анне Фота он в том числе отвергает философию писателей-аграриев:
Сам Крюз тщательно проводит границу между собственными философией и бэкграундом и таковыми у Лайтла. В интервью Анне Фота он в том числе отвергает философию писателей-аграриев:
Я в общем-то не разделяю этих идей и не то чтобы принадлежу к этой традиции южной литературы. Я люблю, почитаю и верю в любую традицию; я верю, что люди должны знать откуда они и кто их народ. Но здесь мы опять возвращаемся к простой причине: отец Лайтла был «богатым» — «богатый», это старинное слово, а не просто «обеспеченный», это уже новое слово — вся земля в Мерфрисборо, в Теннеси, все это его предки отдали для строительства города. Ничего общего со мной. В общем, очевидно, что то, каким я вижу Юг и как смотрю на жизнь, неизбежно будет отличаться от его взгляда. Я не должен говорить все это, утверждать за него, но, насколько я понимаю, Лайтл считает, что лучшим миром был бы тот, в котором «у каждого человека есть человек и господь всемогущий» — ужасно средневековая штука6.
Для Крюза представления Лайтла о фермерах-южанах в своей основе являются элитистскими, и не случайно, что Толстяк, безнадежный романтик Садовых Холмов — это живущий на холме богач, который надеется сохранить статус-кво своей южной общины, потому что он не может выжить без черни под своим домом.
Крюз неизменно проводит различие между сегрегационисткой философией Лайтла и собственными взглядами на расовую проблематику. Если у Лайтла был аристократический бэкграунд и его расовые предубеждения редко подвергались сомнению, то Крюз рос бок о бок с одинаково бедными черными и белыми. Крюз отвергает ту оценку бедности, что мы обнаруживаем в работах аграриев — и в особенности в эссе Лайтла, — находя в ней ослепляющую снисходительность. Размышления Крюза в интервью на тему сельской бедности, по-видимому, указывают на снисходительность, присущую, по его мнению, аграрной философии: «Все любят петь оды тому, как прекрасна сельская жизнь. Сельская жизнь, какой я ее знал и какой жил в детстве, безоговорочно ужасна». Подобные высказывания заставляют задуматься о генезисе персонажей Крюза в романе «Нагие в Садовых Холмах» и в других текстах: их ожесточенность это ожесточенность знакомой большинству из них сельской жизни, и они движутся в сторону современного образа жизни, предлагающего только ожесточенность и непостоянство. Они оказались схваченными в мире, который сам Крюз называл «моральным вакуумом» — мире, где моральные и физические законы былых времен, в глазах Крюза, были утрачены.
Разногласия Крюза с Лайтлом и аграриями привели его к гораздо более мрачному, в сравнении с ними, видению, почерпнутому не из обращения к ностальгии, а из философии Сартра. В интервью с Фота Крюз цитирует своего бывшего наставника, сказавшего бывшему ученику, что «причина, почему ты не можешь закончить свою прозу подобающим образом, в том, что ты не веришь в естественный порядок вещей и не восприимчив к божественному». Крюз, по всей видимости, выражает согласие, когда называет себя «верующим, которому не во что верить». Возможно, мы видим в Крюзе убежденность аграриев в том, что в нашей современной амбивалентности много неправильного. Но Крюз, в традиции экзистенциалистов, должен покончить с амбивалентностью; для него Бог не имеет власти в этом южном царстве Абсурда.
Социолог Ирвинг Гофман писал, что в Америке двадцатого века социальная жизнь лучше всего характеризуется представлением; по Гоффману американцы проживают свои жизни словно череду выступлений, «обмен драматически взвинченными действиями, контрдействиями и заключительными репликами»7. Из аргумента Гоффмана — «мы оказываемся коммерсантами от морали» — следует, что моральные системы в сущности являются представлениями и в них мы играем себя такими, какими желаем явить другим. В романе «Нагие в Садовых Холмах» Крюз постулирует ровно такой же мир, где перед нами предстают персонажи, для которых исполнение гротеска — единственное средство достижения индивидуальности. Индивидуальность, в глазах Крюза, сама по себе стала товаром, и Долли понимает, что только отречение от личностного сделает индивидуальность востребованной на рынке.
Новая индустрия привела Долли к такому выводу: «В детстве она не могла избежать грохота машин Джека О’Бойлана: лязгающих шестерёнок, когда целые горизонты возносились к небесам, так что песок просыпался вниз подобно дождю». Она отождествляет технологию добычи фосфатов с властью как таковой: «Властью превращать живых людей в фосфат; властью превращать фосфат в живых людей». Но ее собственные пути к достижению власти неизменно пролегали через выступление: девочкой она принимала монеты от мужчин Садовых Холмов, с вожделением пожиравших ее глазами, а девушкой, будучи в Нью-Йорке, выступала танцовщицей в ночном клубе. В конечном итоге, Долли находит власть в организованных ею гротескных выступлениях.
Но даже Долли, главная заводила фрик-шоу Крюза, остается неудовлетворенной. Ее попытка покончить с долгими годами девственности при помощи Толстяка, проваливается, когда она ничего не может поделать с его импотенцией: она самый циничный персонаж романа, но даже в ней мы обнаруживаем жгучую тоску. Невинность Долли иронично сохраняется в романе, хотя, разумеется, это всего лишь символическое переиначивание потери невинности общиной. В представлении Крюза, любовь терпит неудачу, желание оказывается неудовлетворенным, духовные порывы остаются нереализованными. Это тот самый урок, что Долли преподает Толстяку и остальным жителям Садовых Холмов. Сам Крюз говорит о концовке следующее: «против чего я возражаю, так это против того, что в подобных условиях любовь вконец безнадежна или невозможна».
В конце романа представление становится центральной метафорой всего текста, поскольку промышленность и коммерция уничтожили для персонажей Крюза все подлинные формы человеческих взаимодействий. Они устраивают дикое исполнение собственной бессмысленности. Отказ Толстяка принять свою гротескную роль согласно логике романа делает его еще более гротескным: успеха достигают те из персонажей, кто осознает, что они лишь часть, а не целое. Для Шута совершенство человека — это недостижимая устремленность, а стремление к нему — полнейший абсурд.
В «Буду стоять на своем» Лайтл писал о современности: «оказаться застигнутым против своей воли в таком неутешительном положении вещей — губительно; но почтительно склониться перед ним, узнав, насколько бесплоден его закон, — подобно оскоплению». На последних страницах романа жители Садовых Холмов празднуют собственное обезображивание: вовсю разгорается шоу с девушками Садовых Холмов, танцующих гоу-гоу, а Толстяк становится гвоздем программы. Сморенный голодом по указке Долли он словно раненный зверь бредет в ночи к восстановленному заводу, привлеченный запахом жареного мяса. Шут и Люси выступают на возвышающейся платформе перед ним, и Шут седлает Люси, пока та имитирует скачущую лошадь. Промышленные инновации, привнесенные современной капиталистической экономикой в сельское захолустье Юга, превратили героев Крюза в зверье. Шут, этот паяц, способный оставаться нетронутым комментируемой им трагедией, выживет, потому что он способен принять свою роль исполнителя, отстранившегося от близости в человеческих взаимоотношениях. А Толстяк, которому недостает иронического мировоззрения Шута и который стремился как к близости, так и к высшей истине, наоборот, заканчивает истинным фриком романа, потому что он стремился найти, а не сыграть человеческие ценности в современном мире, что сминает всех тех, кто отправляется на их поиски.
Крюз неизменно проводит различие между сегрегационисткой философией Лайтла и собственными взглядами на расовую проблематику. Если у Лайтла был аристократический бэкграунд и его расовые предубеждения редко подвергались сомнению, то Крюз рос бок о бок с одинаково бедными черными и белыми. Крюз отвергает ту оценку бедности, что мы обнаруживаем в работах аграриев — и в особенности в эссе Лайтла, — находя в ней ослепляющую снисходительность. Размышления Крюза в интервью на тему сельской бедности, по-видимому, указывают на снисходительность, присущую, по его мнению, аграрной философии: «Все любят петь оды тому, как прекрасна сельская жизнь. Сельская жизнь, какой я ее знал и какой жил в детстве, безоговорочно ужасна». Подобные высказывания заставляют задуматься о генезисе персонажей Крюза в романе «Нагие в Садовых Холмах» и в других текстах: их ожесточенность это ожесточенность знакомой большинству из них сельской жизни, и они движутся в сторону современного образа жизни, предлагающего только ожесточенность и непостоянство. Они оказались схваченными в мире, который сам Крюз называл «моральным вакуумом» — мире, где моральные и физические законы былых времен, в глазах Крюза, были утрачены.
Разногласия Крюза с Лайтлом и аграриями привели его к гораздо более мрачному, в сравнении с ними, видению, почерпнутому не из обращения к ностальгии, а из философии Сартра. В интервью с Фота Крюз цитирует своего бывшего наставника, сказавшего бывшему ученику, что «причина, почему ты не можешь закончить свою прозу подобающим образом, в том, что ты не веришь в естественный порядок вещей и не восприимчив к божественному». Крюз, по всей видимости, выражает согласие, когда называет себя «верующим, которому не во что верить». Возможно, мы видим в Крюзе убежденность аграриев в том, что в нашей современной амбивалентности много неправильного. Но Крюз, в традиции экзистенциалистов, должен покончить с амбивалентностью; для него Бог не имеет власти в этом южном царстве Абсурда.
Социолог Ирвинг Гофман писал, что в Америке двадцатого века социальная жизнь лучше всего характеризуется представлением; по Гоффману американцы проживают свои жизни словно череду выступлений, «обмен драматически взвинченными действиями, контрдействиями и заключительными репликами»7. Из аргумента Гоффмана — «мы оказываемся коммерсантами от морали» — следует, что моральные системы в сущности являются представлениями и в них мы играем себя такими, какими желаем явить другим. В романе «Нагие в Садовых Холмах» Крюз постулирует ровно такой же мир, где перед нами предстают персонажи, для которых исполнение гротеска — единственное средство достижения индивидуальности. Индивидуальность, в глазах Крюза, сама по себе стала товаром, и Долли понимает, что только отречение от личностного сделает индивидуальность востребованной на рынке.
Новая индустрия привела Долли к такому выводу: «В детстве она не могла избежать грохота машин Джека О’Бойлана: лязгающих шестерёнок, когда целые горизонты возносились к небесам, так что песок просыпался вниз подобно дождю». Она отождествляет технологию добычи фосфатов с властью как таковой: «Властью превращать живых людей в фосфат; властью превращать фосфат в живых людей». Но ее собственные пути к достижению власти неизменно пролегали через выступление: девочкой она принимала монеты от мужчин Садовых Холмов, с вожделением пожиравших ее глазами, а девушкой, будучи в Нью-Йорке, выступала танцовщицей в ночном клубе. В конечном итоге, Долли находит власть в организованных ею гротескных выступлениях.
Но даже Долли, главная заводила фрик-шоу Крюза, остается неудовлетворенной. Ее попытка покончить с долгими годами девственности при помощи Толстяка, проваливается, когда она ничего не может поделать с его импотенцией: она самый циничный персонаж романа, но даже в ней мы обнаруживаем жгучую тоску. Невинность Долли иронично сохраняется в романе, хотя, разумеется, это всего лишь символическое переиначивание потери невинности общиной. В представлении Крюза, любовь терпит неудачу, желание оказывается неудовлетворенным, духовные порывы остаются нереализованными. Это тот самый урок, что Долли преподает Толстяку и остальным жителям Садовых Холмов. Сам Крюз говорит о концовке следующее: «против чего я возражаю, так это против того, что в подобных условиях любовь вконец безнадежна или невозможна».
В конце романа представление становится центральной метафорой всего текста, поскольку промышленность и коммерция уничтожили для персонажей Крюза все подлинные формы человеческих взаимодействий. Они устраивают дикое исполнение собственной бессмысленности. Отказ Толстяка принять свою гротескную роль согласно логике романа делает его еще более гротескным: успеха достигают те из персонажей, кто осознает, что они лишь часть, а не целое. Для Шута совершенство человека — это недостижимая устремленность, а стремление к нему — полнейший абсурд.
В «Буду стоять на своем» Лайтл писал о современности: «оказаться застигнутым против своей воли в таком неутешительном положении вещей — губительно; но почтительно склониться перед ним, узнав, насколько бесплоден его закон, — подобно оскоплению». На последних страницах романа жители Садовых Холмов празднуют собственное обезображивание: вовсю разгорается шоу с девушками Садовых Холмов, танцующих гоу-гоу, а Толстяк становится гвоздем программы. Сморенный голодом по указке Долли он словно раненный зверь бредет в ночи к восстановленному заводу, привлеченный запахом жареного мяса. Шут и Люси выступают на возвышающейся платформе перед ним, и Шут седлает Люси, пока та имитирует скачущую лошадь. Промышленные инновации, привнесенные современной капиталистической экономикой в сельское захолустье Юга, превратили героев Крюза в зверье. Шут, этот паяц, способный оставаться нетронутым комментируемой им трагедией, выживет, потому что он способен принять свою роль исполнителя, отстранившегося от близости в человеческих взаимоотношениях. А Толстяк, которому недостает иронического мировоззрения Шута и который стремился как к близости, так и к высшей истине, наоборот, заканчивает истинным фриком романа, потому что он стремился найти, а не сыграть человеческие ценности в современном мире, что сминает всех тех, кто отправляется на их поиски.
Слепой нагой трофей — статья о Харри Крюзе и "Нагих в Садовых Холмах" Павла Соленикова
Певец округа Бэйкон — статья в The New Yorker на смерть Харри Крюза
Взобраться на башню — эссе Харри Крюза о вечной борьбе писателя со своими демонами
Отцы, сыновья, кровь — эссе Харри Крюза о потере старшего сына и отношениях с младшим
Певец округа Бэйкон — статья в The New Yorker на смерть Харри Крюза
Взобраться на башню — эссе Харри Крюза о вечной борьбе писателя со своими демонами
Отцы, сыновья, кровь — эссе Харри Крюза о потере старшего сына и отношениях с младшим
Купить роман "Нагие в Садовых Холмах" Харри Крюза на Ozon


